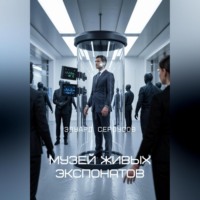Полная версия
NFT: Невероятно Фальшивый Тип

Эдуард Сероусов
NFT: Невероятно Фальшивый Тип
ЧАСТЬ I: СОЗДАНИЕ
Глава 1: Провал
Воздух в аукционном зале Cristie's был пропитан запахом денег, духов за тысячу евро флакон и страха. Страха упустить, проебать, не успеть. Три базовые эмоции современного арт-рынка. Я сидел в пятом ряду, потягивая минералку, и наблюдал за этим театром абсурда, где главными героями выступали не художники, а их ценники.
– Лот номер семнадцать, – объявил аукционист с таким видом, будто представлял публике второе пришествие. – Коллекция «Reflection Distortion» неизвестного автора под псевдонимом X-7. Двадцать уникальных NFT с цифровыми изображениями искаженных отражений урбанистических пейзажей. Стартовая цена – сто тысяч долларов.
Я усмехнулся. Сто тысяч за набор пикселей, которые даже потрогать нельзя. Десять лет назад такое предложение сочли бы шуткой или признаком психического расстройства. Сейчас это повседневность.
На экране появились абстрактные изображения – разноцветные пятна, геометрические формы, что-то среднее между работами позднего Кандинского и глюками видеокарты. Я не увидел ничего особенного, но люди вокруг уже начали поднимать таблички с номерами.
– Сто двадцать тысяч. Сто пятьдесят. Двести тысяч от участника под номером сорок два…
Аукционист объявлял новые суммы с нарастающим энтузиазмом. Его голос поднимался все выше, словно приближаясь к оргазму. Толпа богатых зрителей следила за этим финансовым стриптизом с жадным возбуждением. Некоторые зажали в руках таблички с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Особенно усердствовал какой-то мудак в красном пиджаке от Tom Ford и с часами стоимостью с трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
– Пятьсот тысяч! Шестьсот! Семьсот пятьдесят тысяч долларов!
Суммы росли, как опухоль в последней стадии рака. Быстро, неотвратимо, разрушительно. Я сидел и думал – какой же это все пиздец. Коллекция абстрактных картинок от анонимного автора, о котором никто ничего не знает, взлетает до стратосферы за считанные минуты. А я, с пятнадцатилетним опытом работы на арт-рынке, дипломом Строгановки и связями по всей Москве, еле наскребаю на аренду студии.
– Один миллион долларов! – торжественно объявил аукционист, и зал взорвался аплодисментами.
Один. Сука. Миллион. За цифровые картинки от анонима.
Мне стало душно. Я ослабил узел галстука и сделал глубокий вдох. Красный пиджак триумфально вскинул руки, принимая поздравления от соседей. Продавец, тощий парень лет двадцати пяти с узкой бородкой и в очках с прозрачной оправой, скромно улыбался в углу зала. Никто, блядь, абсолютное никто с дебютной коллекцией – и сразу миллион баксов.
Я вышел из зала до окончания аукциона. В кармане завибрировал телефон. Сообщение от Глеба Рогозина, владельца галереи «RogoArt», в которой я иногда подрабатывал консультантом: «Ну как там? Купил что-нибудь интересненькое для галереи? LOL».
Мудак. Знает же, что я прихожу на такие мероприятия просто поглазеть. Максимум, что я мог себе позволить – это приобрести каталог аукциона за пятьдесят евро, да и то – психанув и решив пропустить ужин.
Я проигнорировал сообщение и вышел на улицу. Сентябрьский вечер был прохладным, но мне нужен был этот свежий воздух. Чтобы проветрить мозги от запаха денег, которые проплывали мимо меня, как косяк рыб мимо голодного рыбака без удочки.
Метро встретило меня обычной вечерней толкотней. Я протиснулся в вагон и ухватился за поручень, отстраненно рассматривая пассажиров – уставших, серых, с потухшими глазами. Обычные люди, живущие обычной жизнью. Для них NFT звучит как название новой болезни или какого-нибудь удобрения.
Контраст между миром аукциона, где миллион долларов улетает за пару минут, и этим вагоном метро, где люди считают копейки до зарплаты, был настолько разителен, что меня затошнило. Или это была просто зависть? Честно говоря, я уже не различал.
Смартфон снова завибрировал. На этот раз звонила сестра.
– Привет, Софа, – ответил я, прикрывая второе ухо ладонью, чтобы слышать ее сквозь грохот метро.
– Марк, ты помнишь, что обещал перевести деньги за квартиру? – без предисловий начала она. – Завтра последний срок, а на счету всего половина суммы.
– Помню, конечно, – я потер переносицу. – Слушай, там небольшая задержка с оплатой от клиента. Обещают перевести в понедельник. Можешь одолжить до начала недели? Я верну с процентами.
На том конце повисла пауза. Я знал, о чем думает Софья. О том, что это уже третий раз за последние два месяца. О том, что «небольшая задержка с оплатой» – это моя стандартная отмазка. О том, что она устала быть моим банкоматом.
– Ладно, – наконец, сказала она. – Но это в последний раз, Марк. Я серьезно. У меня самой не мед.
– Ты лучшая сестра в мире, – с облегчением выдохнул я. – Клянусь, в понедельник все верну.
– Угу, – без энтузиазма отозвалась она. – Кстати, как прошел аукцион?
– Как обычно. Очередной никто продал набор пикселей за миллион баксов.
– Оу. Ты в порядке?
– В полном, – соврал я. – Просто немного устал от этого цирка.
– Может, тебе стоит попробовать что-то новое? – осторожно предложила Софья. – Ты ведь сам неплохо рисуешь. Может, вернешься к собственному творчеству?
Я горько усмехнулся. Моя сестра, при всей ее проницательности, иногда бывала невыносимо наивной.
– В мире десять тысяч таких, как я, Соф. Рынку не нужны еще одни «неплохие» работы. Ему нужны или шедевры, или хайп. У меня нет ни того, ни другого.
– Но ты даже не пытаешься…
– Слушай, давай не сейчас, ладно? – перебил я. – Мне выходить на следующей. Спасибо за помощь с деньгами. Люблю тебя.
Я отключился, не дожидаясь ответа, и протиснулся к дверям. Софья права – я действительно когда-то неплохо рисовал. Достаточно, чтобы поступить в Строгановку, но недостаточно, чтобы после нее стать кем-то значимым в мире искусства. Я быстро понял, что у меня есть вкус, насмотренность, понимание рынка, но нет той искры, которая отличает настоящего художника от просто человека с образованием. И сделал логичный выбор – перешел на сторону продавцов и консультантов. Ведь лучшие критики – это несостоявшиеся творцы, верно?
Но сегодняшний аукцион что-то всколыхнул во мне. Какую-то глубинную, иррациональную обиду. Несправедливость всей этой системы, где талант и опыт значат меньше, чем удачный маркетинговый ход, била под дых.
Моя квартира находилась в обшарпанной сталинке на окраине центра. Сорок метров, из которых половину занимала студия – мое рабочее место, где я консультировал клиентов, оценивал работы, иногда делал наброски, которые никому не показывал. Когда-то я мечтал о просторной мастерской с высокими потолками и северным светом. Теперь я довольствовался тесной комнатой с одним окном и видом на соседнюю многоэтажку.
Я скинул пиджак, налил себе виски и подошел к окну. В соседних домах зажигались огни – люди возвращались с работы, готовили ужин, смотрели телевизор. Обычная жизнь обычных людей. Мне казалось, что я застрял где-то посередине – между миром искусства, куда я так и не смог по-настоящему войти, и миром обычных людей, к которому уже не мог вернуться.
Взгляд упал на стопку альбомов и каталогов на столе. Верхний был открыт на статье о рынке NFT. «Новая золотая лихорадка: как цифровые токены меняют мир искусства». Пафосный заголовок, за которым скрывалась простая истина: люди всегда найдут способ делать деньги из воздуха.
Я сделал глоток виски, и внезапно меня осенило. Что, если проблема не в отсутствии таланта? Что, если дело в неправильном подходе? Я слишком долго играл по чужим правилам – пытался продавать реальное искусство на рынке, который все больше ценит виртуальное. Пытался продвигать работы с историей и смыслом в мире, где анонимность и загадка ценятся выше мастерства.
Я открыл ноутбук и начал гуглить информацию о сегодняшнем лоте. X-7, анонимный художник, появившийся ниоткуда полгода назад. Никаких интервью, никаких фотографий, только цифровые работы и загадочные заявления, опубликованные через посредников. Классическая стратегия искусственного дефицита – когда недоступность повышает ценность.
Странно, что я не подумал об этом раньше. Все эти годы я пытался пробиться как консультант, как представитель художников. Но что, если создать художника с нуля? Виртуального, недоступного, окруженного тайной. Художника, который существует только в информационном поле и на блокчейне. Совершенную иллюзию, отвечающую всем запросам современного арт-рынка.
Идея была абсурдной, рискованной и, возможно, не вполне законной. Но чем больше я о ней думал, тем более привлекательной она казалась. У меня были знания рынка, связи в арт-сообществе и, что важнее всего, полное отсутствие моральных барьеров. Последнее было критически важным навыком для выживания в современном искусстве.
Я допил виски и налил еще. В голове постепенно формировался план. Мне нужно создать не просто анонимного художника, а целую легенду. Историю, которая зацепит, заинтригует, заставит говорить о себе. Я начал набрасывать ключевые пункты:
Загадочная личность с трагическим прошлым
Принципиальный отказ от публичности
Революционный взгляд на цифровое искусство
Философская концепция, связанная с современными тревогами общества
Я усмехнулся. Это было похоже на сборку конструктора «Идеальный современный художник». Циничный подход? Безусловно. Но разве весь современный арт-рынок не построен на цинизме, упакованном в красивые слова о концептуальности и новых смыслах?
Телефон снова завибрировал. На этот раз сообщение от Вероники, моей бывшей. «Видела тебя сегодня на аукционе. Не хотел подходить? Или делал вид, что не заметил?»
Я поморщился. Вероника Листьева, талантливая художница, создающая странные, но впечатляющие инсталляции из промышленного мусора. Мы расстались два года назад, когда она обвинила меня в «продажности» и «предательстве истинного искусства». Глупая идеалистка. Она до сих пор верила, что искусство должно менять мир, а не приносить деньги.
«Был занят. Анализировал рынок», – коротко ответил я и отложил телефон.
Вероника была слишком принципиальной для моего плана. Она бы никогда не одобрила создание фиктивного художника. Но, возможно, именно поэтому мне стоило держать ее в поле зрения. Чтобы не забывать о границах, которые я собирался пересечь.
Я открыл новый документ и начал набрасывать биографию своего несуществующего гения. Имя пришло само собой – Алекс Фантом. Достаточно звучное, чтобы запомниться, и достаточно неопределенное, чтобы не привязывать к конкретной национальности. Фамилия откровенно намекала на призрачность, иллюзорность, но в мире, где художники называют себя Бэнкси или Покрасом Лампасом, это не вызовет подозрений.
К трем часам ночи, после бутылки виски и десятка чашек кофе, у меня была готова черновая версия биографии Алекса Фантома. Родился в неблагополучной семье. Рано потерял родителей. Жил в разных странах. Получил образование в области компьютерных технологий и искусства. Пережил личную трагедию, после которой отказался от публичности и начал создавать цифровые работы, исследующие тему иллюзорности современного мира.
Звучало достаточно убедительно и при этом достаточно размыто, чтобы не вызывать конкретных вопросов. Идеальная легенда для рынка, который любит загадки, но не любит копать слишком глубоко.
Я откинулся на спинку кресла и потер уставшие глаза. Впервые за долгое время я чувствовал азарт. Мой мозг работал с той ясностью, которая бывает только в моменты крайней усталости или вдохновения. Я понимал, что задумал аферу, которая могла закончиться крахом репутации или даже юридическими проблемами. Но также я понимал, что это мой шанс. Возможно, единственный.
В конце концов, разве весь арт-рынок – не одна большая афера? Разве стоимость произведений искусства не строится на убеждении и вере? Я просто собирался создать новый объект веры. Более совершенный, чем все, что было до него. Потому что мой художник будет именно таким, каким его хочет видеть рынок. Безупречным отражением его собственных желаний и страхов.
За окном начинало светать. Новый день. И, возможно, начало моей новой жизни.

Глава 2: Концепция
Проснулся я от звука входящего сообщения. Телефон, лежавший рядом с подушкой, мигал экраном: «Марк, ты где? Мы договаривались на 11:00. Клиент ждет». Глеб Рогозин, владелец галереи, с которой я периодически сотрудничал, явно был не в восторге от моего опоздания.
– Блядь, – пробормотал я, глядя на часы: 11:35.
Вчерашний виски и ночь, проведенная за созданием вымышленной биографии, сделали свое дело. Я вскочил с кровати, чувствуя, как в висках пульсирует боль, а во рту поселилась маленькая пустыня Сахара.
«Буду через 30 минут. Задержали на другой встрече», – набрал я, проклиная себя за вранье, которое даже ребенок распознал бы. Но Глеб привык к моим опозданиям и отмазкам. Он терпел меня только потому, что я иногда приводил к нему состоятельных клиентов и разбирался в современном искусстве лучше многих его сотрудников.
Я принял душ, проглотил две таблетки аспирина, запил их крепким кофе и, натянув первый попавшийся приличный костюм, выскочил из квартиры. Такси, которое я вызвал (несмотря на хроническую нехватку денег – некоторые привычки умирают последними), домчало меня до галереи «RogoArt» за двадцать минут.
Глеб встретил меня у входа с выражением лица, которое он обычно приберегал для художников, чьи работы не продавались даже со скидкой 70%.
– Я смотрю, твоя «другая встреча» включала бутылку чего-то крепкого, – заметил он, окидывая меня оценивающим взглядом. – Клиент уже ушел. Спасибо, блядь, за профессионализм.
– Прости, правда, накладка вышла, – я попытался изобразить раскаяние. – Кто был клиент?
– Какая разница? Ты его все равно профукал, – Глеб развернулся и направился вглубь галереи, жестом приказывая следовать за ним. – Но раз уж ты здесь, помоги с отбором работ для осенней выставки. Твое мнение иногда бывает полезным, когда ты не в говно.
Галерея «RogoArt» располагалась в модном лофт-пространстве бывшей текстильной фабрики. Высокие потолки, кирпичные стены, минималистичные светильники – все по канонам современных выставочных пространств. Глеб гордился своей галереей, хотя она и не входила в топ-5 площадок Москвы. Тем не менее, у него был нюх на перспективных художников и неплохие связи среди коллекционеров средней руки.
Следующие три часа мы провели, отбирая работы для выставки «Новые имена в российском современном искусстве». Глеб показывал мне портфолио молодых художников, а я высказывал свое мнение – что взять, что отбросить, как группировать работы. Несмотря на похмелье, я быстро включился в процесс. Все-таки эта работа была мне по душе – анализировать, оценивать, формировать концепцию.
– А это что за хрень? – я остановился перед серией диджитал-артов, которые слишком напоминали вчерашний лот на аукционе: те же абстрактные формы, та же псевдоглубокая концепция о «взаимодействии реальности и цифрового пространства».
– Это, между прочим, очень перспективный автор, – защищался Глеб. – Его последние NFT ушли на Binance за пятнадцать эфиров.
– Перспективный плагиатор, ты хотел сказать, – я отложил планшет с работами. – Это вторичное дерьмо. Такого сейчас тысячи штампуют на коленке. Если хочешь выделиться, нужно что-то действительно особенное.
Глеб пожал плечами:
– Рынок NFT сейчас горячий. Мы должны быть в тренде.
– Быть в тренде и слепо копировать – разные вещи, – я отпил кофе из стаканчика, который мне любезно предложила ассистентка Глеба. – Кстати, о трендах и NFT…
Я помедлил. План, родившийся вчера ночью, был еще сырым, но интуиция подсказывала, что Глеб – идеальный первый слушатель. Он достаточно циничен, чтобы не отвергнуть идею на моральных основаниях, и достаточно алчен, чтобы заинтересоваться потенциальной прибылью.
– У меня появился интересный художник, – начал я осторожно. – Очень нестандартный подход к цифровому искусству. Глубокая философская концепция, необычная техника. Думаю, это может быть бомба.
Глеб заинтересованно поднял бровь:
– И где ты его откопал?
– Познакомились на закрытой вечеринке после Cosmoscow, – соврал я, упомянув главную российскую ярмарку современного искусства. – Он… не совсем обычный человек. Замкнутый, не любит публичность. Предпочитает общаться через посредников.
– Очередной социофоб с претензией на гениальность? – скептически хмыкнул Глеб.
– Скорее, человек, которого интересует только искусство, а не весь этот светский шум вокруг, – парировал я. – В любом случае, его работы говорят сами за себя. Я могу организовать показ.
Глеб задумчиво потер подбородок. Я знал, о чем он думает. С одной стороны, таинственные художники-затворники – не редкость на арт-рынке. С другой – большинство из них оказываются посредственностями, прикрывающими отсутствие таланта искусственной загадочностью.
– У него есть имя, этого гения-отшельника? – спросил Глеб.
– Алекс Фантом, – произнес я, впервые озвучивая имя своего вымышленного протеже. Оно прозвучало странно реально.
– Фантом? Серьезно? – Глеб не скрывал иронии. – Звучит как псевдоним второсортного рэпера.
– Это псевдоним, – признал я. – Но разве имя имеет значение? Важны работы.
– Ладно, покажешь этого своего Фантома в следующий раз, – Глеб вернулся к просмотру портфолио. – Только не приходи с пустыми руками. Если его работы окажутся очередным хайповым дерьмом, я на тебя даже время тратить не буду.
Я сдержал улыбку. Рыбка клюнула. Теперь мне нужно было создать те самые работы, которые я только что так уверенно расхваливал.
Вернувшись домой, я сразу сел за компьютер. Мне нужно было конкретизировать концепцию Алекса Фантома. Недостаточно было просто выдумать биографию – требовалось создать целостный творческий образ, узнаваемый стиль, философию, которая будет отражаться в каждой работе.
Я открыл новый файл и начал набрасывать ключевые элементы:
Визуальный стиль:
Минималистичные, но эмоционально заряженные цифровые композиции
Контрастные цвета, преимущественно черный, белый, красный
Искаженные человеческие силуэты, архитектурные элементы
Повторяющиеся мотивы: маски, разбитые зеркала, пустые рамы
Философия:
Исследование границы между реальным и виртуальным
Критика общества потребления и информационного перенасыщения
Тема утраченной идентичности в цифровую эпоху
Концепция «призрачности» современного человека
Я остановился и перечитал написанное. Звучало претенциозно, но в мире современного искусства претенциозность часто принимают за глубину. Главное – убедительно упаковать эту концепцию, найти правильные слова, которые заставят людей видеть смысл даже там, где его нет.
Оставалась одна небольшая проблема: я понятия не имел, как создавать цифровое искусство. Мои навыки рисования ограничивались традиционными техниками, а опыт работы с графическими редакторами был минимальным. Мне нужен был кто-то, кто воплотит мои идеи в цифровую форму.
Я открыл список контактов и начал просматривать имена. Мне требовался человек, технически подкованный, но не слишком известный в арт-кругах. Кто-то, кто согласится работать за процент от будущих продаж и не задаст слишком много вопросов.
Взгляд остановился на имени «Дима К.». Дима «Кодер», как его называли в узких кругах, был талантливым программистом и диджитал-художником, которого я встретил на одной из техно-вечеринок год назад. Мы не были близкими друзьями, но иногда пересекались на мероприятиях. Он жаловался, что его работы не находят признания в арт-сообществе, несмотря на техническое совершенство. Классическая история недооцененного таланта – идеальный кандидат для моего плана.
Я набрал его номер. После пятого гудка он ответил сонным голосом:
– Марк? Какого хрена, сейчас восемь вечера… – он зевнул. – Нормальные люди только просыпаются.
– Привет, Дима, – бодро начал я. – Есть интересное предложение. Потенциально денежное.
– Я слушаю, – в его голосе появились заинтересованные нотки.
– Не по телефону. Давай встретимся. Завтра в два, в «Дорогой, я перезвоню»?
– В кафе хипстеров и фрилансеров? – фыркнул Дима. – Ладно, но ты платишь за кофе.
– Заметано, – согласился я и отключился.
Первый шаг сделан. Теперь нужно было подготовиться к встрече так, чтобы Дима купился на мою идею, не осознавая всех рисков. Я должен был представить создание Фантома не как мошенничество, а как концептуальный арт-проект, игру с системой, эксперимент. В конце концов, так оно и было – в какой-то извращенной форме.
Я вернулся к документу и начал детализировать концепцию. Если я хотел создать убедительного фальшивого художника, мне нужно было продумать каждую мелочь: от стилистических особенностей до характерных фраз, которые «Фантом» мог бы использовать в редких текстовых заявлениях. Я должен был знать своего несуществующего протеже лучше, чем самого себя.
К полуночи у меня была готова подробная презентация: визуальные референсы, ключевые тезисы творческой философии, наброски первых работ. Я даже составил примерный план развития «карьеры» Фантома на ближайший год: от первой камерной выставки до участия в международных арт-ярмарках.
Глядя на результат своей работы, я испытывал странное чувство. С одной стороны, мной двигал циничный расчет – желание заработать на системе, которая годами игнорировала мой собственный талант. С другой – я неожиданно увлекся созданием этого персонажа. Алекс Фантом постепенно обретал плоть и кровь в моем воображении, становясь почти реальным.
Перед тем как лечь спать, я открыл Instagram и создал новый аккаунт: @alex_phantom_art. Пока без публикаций, только лаконичная биография: «Исследую границы между реальным и иллюзорным. Не ищите меня – ищите мое искусство». И цитата из Бодрийяра о симулякрах, потому что какой же современный художник без претенциозной цитаты французского философа?
Профиль выглядел достаточно загадочно и при этом типично для арт-сцены. Теперь оставалось наполнить его содержанием, которое заставит людей поверить, что за ним стоит настоящий, талантливый, но предпочитающий анонимность художник.
Я закрыл ноутбук и лег в постель, но сон не шел. В голове крутились образы, концепции, возможные работы Фантома. Я представлял, как его имя появляется в каталогах аукционов, как коллекционеры соревнуются за право обладать его работами, как критики пишут восторженные статьи о «новом голосе цифрового искусства».
Это было похоже на создание персонажа для романа, только с одним существенным отличием: этот персонаж должен был выйти за пределы вымысла и начать взаимодействовать с реальным миром. И от того, насколько убедительным будет этот переход, зависела судьба моей аферы. И, возможно, моя собственная судьба.
Кафе «Дорогой, я перезвоню» было именно таким, как я и ожидал: ноутбуки на каждом столике, бородатые парни в очках с прозрачной оправой, девушки с цветными волосами и татуировками, обсуждающие свои инстаграм-проекты. Типичное место для встречи творческих фрилансеров, где никто не обратит внимания на двух мужчин, обсуждающих странный арт-проект.
Дима появился ровно в 14:15 – опоздание на пятнадцать минут было частью его личного бренда. Высокий, худой, с растрепанными темными волосами и в футболке с принтом из аниме, которое я не узнал. Классический образ гика, за исключением дорогих наручных часов – единственного признака того, что его программистские навыки приносили неплохой доход.
– Итак, что за денежное предложение? – без предисловий спросил он, плюхнувшись на стул напротив меня.
Я заказал нам кофе и, дождавшись, когда бариста отойдет, начал:
– Я создаю нового цифрового художника. Концепция, философия, бэкграунд – все готово. Нужен человек, который поможет с технической реализацией.
Дима приподнял бровь:
– Новый художник? Ты имеешь в виду, что нашел кого-то талантливого?
– Не совсем, – я понизил голос. – Я создаю художника с нуля. Вымышленную личность с проработанной историей и уникальным стилем.
Дима уставился на меня, затем медленно отпил кофе.
– Ты предлагаешь мне участвовать в афере? – в его голосе не было осуждения, скорее любопытство.
– Я предлагаю тебе участвовать в арт-эксперименте, – парировал я. – Мы создаем виртуального художника, чьи работы будут исследовать грань между реальностью и иллюзией. Это метакомментарий о природе современного искусства. Концептуальный проект.
Дима усмехнулся:
– Назови это хоть перформансом, хоть концептуальным высказыванием – суть не меняется. Ты хочешь продавать работы несуществующего автора и впаривать коллекционерам историю о загадочном гении-затворнике.