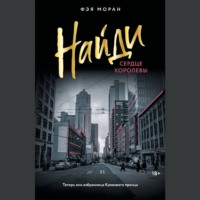Полная версия
Злодей и фанатка
Мы долго ехали по узким улочкам, зажатым между обшарпанными кирпичными зданиями, стены которых были испещрены граффити. Даже на фоне общей разрухи выделялись украшения к Хэллоуину: пластиковые скелеты, болтающиеся на ветру паутины, зловеще светящиеся тыквы. Окна многих домов были заколочены, а те, что остались целыми, тускло поблёскивали, кое-где из-за стекол на нас ухмылялись вырезанные из бумаги рожи. На тротуарах валялись груды мусора, ветер гонял по асфальту обрывки газет и пустые пластиковые бутылки. Изредка нам встречались прохожие: хмурые мужчины в бесформенной одежде, женщины с потухшими взглядами, толкающие перед собой детские коляски. Машина проехала мимо группы подростков, одетых в широкие штаны и толстовки с капюшонами, которые, оперевшись о стену какого-то заброшенного здания, курили и негромко переговаривались.
Чем дальше мы ехали, тем более унылым и заброшенным становился пейзаж. Создавалось ощущение, что мы попали в какой-то другой мир.
– Это был твой брат? – спросила я, не терпя тишины. Мне не нравилась его молчаливость.
Удивительно, но Кошмарик не стал игнорировать меня в этот раз и ответил:
– Племянник.
– О, – только и выдавила я.
Потом вспомнила о плюшевом мишке и смешной мелодии, установленной в его телефоне в качестве рингтона. Может, это было дело рук Луки? Хотя, нет… Он уже слишком взрослый для подобного.
Внезапно Кошмарик заговорил в недолго продлившейся тишине:
– Тебе нормально живётся с мыслью о том, что ты дрочила на диване моей сестры?
Я опешила. Мысли лихорадочно заметались в голове, а глаза изумлённо распахнулись.
Ох, блядь! Неужели он не спал?
Но стыдно мне не стало. Подумаешь. Дрочка это вполне себе естественная вещь. Если по-другому сексуального удовлетворения получить нельзя.
– Если бы ты подал знак, – пробурчала я едва слышно, – что не спишь, я бы перестала. Так что сам виноват.
– Даже если бы я спал, эта тряска меня разбудила бы в любом случае, – ответил он. – Ты так усердно старалась.
Я украдкой взглянула на него. Он, казалось, не так раздражён, как обычно, а скорее даже весел. Неужели? Новая эмоция? В его глазах мелькали странные искорки, которые я не могла расшифровать. В этом парне определённо было что-то притягивающее, несмотря на его грубость и откровенную неприязнь ко мне. Некая дикая, необузданная энергия, которая вибрировала вокруг него, как электрический ток. И эта энергия вызывала во мне странное волнение.
– Если тебе интересно, я думала о тебе, пока дрочила, – решила не скрывать я, усмехнувшись. – Представляла, как ты можешь выглядеть без одежды. И представляла, что это твои пальцы в меня проникали.
Парень повернулся ко мне, и в его глазах полыхнуло пламя. Он ничего не сказал, но его взгляд говорил красноречивее любых слов. Он прожигал меня насквозь. В этих глазах было что-то животное, первобытное. Что-то, что заставило мой пульс подскочить.
Его рука молниеносно взметнулась вверх и схватила меня за подбородок. Пальцы сжали кожу достаточно сильно, чтобы я почувствовала боль.
– Ты играешь с огнём, Чокнутая, – прохрипел он, и его голос был низким и хриплым. – Опасная игра.
В воздухе повисло напряжение, густое и тягучее, как сироп. Я почувствовала жар между ног, который не в силах была проигнорировать. Тело сразу заныло.
– А я не боюсь обжечься, – выдохнула я.
Его хватка на моём подбородке усилилась. Он смотрел на меня, не отрываясь, и в его глазах читалась смесь гнева, желания и ещё чего-то. Чего-то тёмного и опасного.
Машина виляла на дороге, но Кошмарик, казалось, не замечал этого. Вся его концентрация была направлена на меня. И это безумие, эта полная потеря контроля над ситуацией, заводила меня ещё больше.
– Ты даже не представляешь, насколько горячо может быть, – ответил он. – И насколько сильно ты можешь обжечься.
Внизу живота пульсировало жгучее желание. Адреналин бурлил в крови, смешиваясь с непонятным, но пьянящим страхом.
Я хотела его.
– Так покажи мне, – прошептала я, затаив дыхание.
Его рука выпустила мой подбородок и сползла вниз по шее, груди и животу к внутренней части моих бёдер. Пальцы медленно скользнули между моих ног, обжигая кожу сквозь тонкую ткань пижамы. Я невольно вздрогнула, выгнувшись, вся напряглась, ожидая продолжения. Кошмарик смотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде плясали дьявольские искорки.
Но внезапно он резко убрал руку, словно одёрнув её от огня, и вернул взгляд на дорогу. Усмехнулся, увидев моё разочарование.
– Размечталась, – прошептал он, его голос был пропитан издёвкой. – Я уже говорил, что не трахаю малолеток.
– Я не… – начала было я, возмущённая его словами, но он меня перебил:
– И особенно тех, кто меня бесит.
Он сильнее надавил на газ, и машина рванула вперёд.
Я молчала, пытаясь справиться с разочарованием и никак не отступавшим возбуждением. Все мои внутренности пылали. Он играл со мной, как кот с мышкой, разжигая во мне желание, а потом резко обрывая всё на самом интересном месте.
– Ты думаешь, что можешь так просто отделаться? – Я скрестила руки на груди. – Ты ошибаешься. Я не из тех, кто сдаётся так легко.
Кошмарик бросил на меня быстрый взгляд и сказал:
– Боюсь, у тебя не будет возможности доказать мне это, Чокнутая.
В следующую секунду он резко затормозил, джип вильнул, и я едва успела ухватиться за ручку на двери, чтобы не удариться головой. Шины взвизгнули на асфальте, и машина остановилась, чуть не задев припаркованный у обочины автомобиль.
– Вылезай, – отрезал Кошмарик холодным, как лёд, тоном. – Дальше сама доберёшься.
– Но… – начала я, но он снова меня перебил:
– Никаких «но». Выметайся. Куда ты пойдёшь и как доберёшься – теперь не моя проблема.
Я опешила. Мы были посреди какого-то незнакомого района, вокруг ни души. Узкая улица, на которой мы остановились, выглядела убого и заброшенно: облупившаяся краска на стенах домов, выбитые окна, заколоченные досками двери. По обочинам громоздились переполненные мусорные баки, распространяя вокруг себя тошнотворный запах.
– Ты не можешь просто высадить меня здесь! – возмутилась я. – Это опасно!
– Мне плевать, – ответил Кошмарик, даже не взглянув на меня. – Я своё дело сделал. Ты могла подохнуть ещё вчера, но благодаря мне всё ещё жива. Что ты будешь делать дальше – не моя забота. Выходи. Или я сам тебя вытащу.
В его голосе звучала неприкрытая угроза. Я поняла, что спорить бесполезно, поэтому распахнула дверь и выскочила из машины.
– Зря я дрочила на тебя ночью, – буркнула я, чувствуя, как злость и обида подступают к горлу. – Ты этого не заслуживаешь.
Он усмехнулся; короткий, безрадостный звук.
– Как-нибудь переживу, – бросил Кошмарик, прежде чем резко нажать на газ и умчаться, оставив меня одну посреди этой унылой, безжизненной улицы.
Джип, сверкнув задними фарами, растворился в утренней дымке.
Я стояла, обнимая себя руками, пытаясь согреться в прохладном утреннем воздухе, и чувствовала себя совершенно потерянной. Вокруг не было ни души, только серые стены домов, мусорные баки и гнетущая тишина.
Вот же гандон! А я ещё хотела с ним перепихнуться!
Злость жгла меня изнутри, но сейчас важнее было понять, что делать дальше. Оглядевшись, я побрела по улице. Дома вокруг выглядели заброшенными и зловещими, окна затянуты грязной плёнкой или заколочены досками. Изредка из-за приоткрытых форточек доносились обрывки разговоров, смех, лязг посуды. Где-то внутри этих обшарпанных стен теплилась жизнь.
Через пару кварталов улица немного оживилась. Появились небольшие магазинчики, забегаловки. У входа в одну из них, – у той, что имела название «У Хавьера», – из которой струился запах жареного лука и кофе, толпились люди. Это было какое-то подобие закусочной с пластиковыми столиками на улице. Я подошла ближе. Внутри, сквозь запотевшее стекло виднелись тусклые лампы и барная стойка, за которой суетился мужчина в засаленном фартуке.
Недолго думая, я решила войти, как будто просто прогуливалась по окрестностям и решила подкрепиться. Мне срочно нужно было запить стресс. Чем угодно. Дверь, которую я толкнула, скрипнула, и на меня полился шум голосов, смех и звон посуды. Всё это сливалось в гул, который почему-то успокаивал. Запах жареного лука ударил в нос ещё сильнее, смешиваясь с ароматом дешёвого кофе. Внутри было теснее, чем казалось снаружи. Несколько столиков, сбитых из грубых досок, были заняты. У барной стойки сидели двое – мужчина с проседью в волосах и татуировкой якоря на руке и молодая девушка с пирсингом в носу, которая нервно крутила в руках стакан.
Бармен, заметив меня, вытер руки о фартук и кивнул.
– Чего желаете? – спросил он безразлично, его взгляд скользнул по мне и тут же вернулся к стаканам.
В этот момент я поняла, что даже не знаю, чего хочу. Просто немного погоревать о том, что у меня не случился перепих с горячим похитителем.
А ещё вспомнилось то, что у меня нет ни копейки.
– Стакан воды, пожалуйста, – попросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно.
Бармен нахмурился, но всё же налил воды из-под крана в стакан и поставил его передо мной.
– Спасибо, пузатый дядя, – пробормотала я, чувствуя себя ещё более жалкой, чем раньше.
Вода была тёплой и отдавала хлоркой. Я сделала маленький глоток и уставилась на трещины в деревянной столешнице, думая, что делать дальше.
– У тебя какие-то проблемы? – спросил бармен, встав передо мной.
Его тень накрыла меня, словно грозовая туча. От него несло луком. Я невольно поморщила нос и подняла на него глаза. Рукава его засаленной футболки обтягивали мускулистые руки, а на шее, над вырезом, виднелся край татуировки – какой-то извивающейся, зловещей виньетки.
– Не-а, – промямлила я, отводя взгляд. – Всё круто.
– Выглядишь так, будто сейчас расплачешься, – сказал он, не меняя тона. Голос был грубоватым, но в нём не слышалось агрессии. Скорее, какое-то усталое сочувствие.
Я молчала, теребя край стакана.
– Парень обидел? – спросил бармен.
Я продолжила молчать.
Бармен вздохнул и почесал затылок. Он бросил взгляд на мой стакан с водой, потом снова на меня, словно оценивая.
– Слушай, – начал он, понизив голос, – вода тут не поможет. У меня есть кое-что покрепче. Но сперва я бы хотел узнать, сколько тебе лет?
– Двадцать один на днях исполнилось, – соврала я, надеясь, что он мне поверит.
Бармен хитро прищурился, словно видел меня насквозь, и я решила, что моя ложь не сработала. Однако, на моё удивление, он достал из-под стойки бутылку виски и небольшой стакан. Налил щедрую порцию янтарной жидкости и поставил передо мной.
– Выпей, – сказал он, – за счёт заведения. Должно помочь, чтобы у тебя там ни случилось.
Я удивлённо посмотрела на него, потом на стакан. Резкий запах виски ударил в нос.
– Пей, не стесняйся, – усмехнулся бармен. – Хуже уже точно не будет.
Его слова прозвучали неожиданно тепло. Я посмотрела на него. В желтоватом свете бара лицо Пузатого дяди казалось уже не таким суровым, как раньше. В уголках глаз залегли морщинки, а губы словно сами собой растянулись в лёгкой улыбке.
Я взяла стакан и сделала небольшой глоток. Виски обжёг горло, вызвав волну тепла, которая разлилась по всему телу, заставив меня закашляться, а бармена – засмеяться.
– Полегче, ковбой, – сказал он, – это не лимонад.
Я сделала ещё один глоток, на этот раз медленнее, стараясь прочувствовать вкус. Он был сложным, горьковато-сладким, с привкусом дыма и древесины.
– Неплохо, – признала я, поставив стакан на стойку.
– Говорю же, – усмехнулся бармен, вытирая стойку тряпкой. – Лекарство от всех болезней. Что тебя привело в такое место, ковбой? В этой тоненькой пижаме. Тебе не холодно?
Вопрос был задан с такой добродушной интонацией, что я невольно расслабилась.
– Долгая история. Скажем так, день не задался с самого утра.
– У всех бывают такие дни, – сказал бармен, бросив взгляд на фотографию в рамке, стоявшую за стойкой. На фото была девочка лет четырнадцати с озорной улыбкой и двумя косичками. – У меня дочь твоего возраста. У неё тоже вечно какие-то драмы. То с парнем, то с подругами, то в колледже…
Он покачал головой, словно вспоминая что-то забавное.
– Это она? – спросила я, кивнув в сторону фото.
– Ага, – кивнул он, – моя главная гордость и радость. Хоть иногда и головная боль. Она учится сейчас в колледже, на дизайнера. Вечно вся в своих эскизах, в красках… Бардак в её комнате как после взрыва. Но я не жалуюсь. Главное, чтобы она была счастлива.
Пузатый дядя замолчал, снова взглянув на фотографию. Его лицо смягчилось. И это вызвало у меня невольную улыбку.
От меня мои родители отказались, так что мне никогда не приходилось знать, что значит папа и мама.
– Ей повезло, – сказала я задумчиво. – С семьёй. Я, например, выросла в системе.
Я отвела взгляд, ковыряя ногтем пятнышко на стойке. Говорить о приёмных семьях всегда было тяжело. В девятнадцать лет я уже не подпадала под программы социальной опеки и вынуждена была сама пробивать себе дорогу в жизни.
Бармен прекратил тереть стойку и посмотрел на меня. В его взгляде не было ни жалости, ни любопытства, только спокойное внимание.
– Тяжело, наверное, – сказал он, понимающе кивнув. – В Нью-Йорке одной непросто.
– Я снимаю с подругой таунхаус в Бруклине. Но с прошлой работы пришлось уволиться, потому что ко мне приставал один мудак, а я за это вонзила ему в яйца ножницы… В общем, мне пришлось уйти.
Бармен хохотнул, явно поддержав меня.
– Звучит здорово. Он ещё легко отделался. Если бы кто-то приставал к моей дочке, ему пришлось бы пришивать яйца обратно целиком.
Я засмеялась, кивая и одобряя такой расклад.
– Ты хорошая девчонка, кем бы ты ни была, – по-доброму произнёс Пузатый дядя, – но береги себя. В последнее время в Бруклине неспокойно. Вроде как участились похищения людей.
Я фыркнула. Долбаный Кошмарик и его дружки. Интересно, сколько таких курьеров? И на кого они все работают?
– Вообще я слышал о разных бандах в Нью-Йорке. Вроде как тут остались остатки влияния Пяти Семей. Говорят, они до сих пор контролируют некоторые профсоюзы и занимаются рэкетом, отмыванием денег, а кто-то шепчется и про наркотики. А ещё вроде есть ирландские и албанские группировки. Это не для кого не секрет.
Может, Кошмарик работает на кого-то из них?
Пузатый дядя, протерев стойку, кивнул, как будто прочитав мои мысли.
– Я подозреваю, это мафия. Они уже почти как легенда. Старики, которые держатся за власть. Сейчас всё по-другому. Появились новые игроки: русская мафия, китайские триады, доминиканские банды, латиноамериканские наркокартели. У каждого свой район, свой бизнес. Они жестокие и непредсказуемые.
– А может, это просто какой-то псих-одиночка? – предположила я, вспоминая об агрессивном Кошмарике, который грубил мне на протяжении всего нашего знакомства.
– Сомневаюсь.
К стойке подошёл мужчина, и бармен отвлёкся на него, интересуясь о желаниях нового клиента.
Мне было до чёртиков обидно из-за последнего инцидента. Виски нихрена не помог. Кошмарик втянул меня в свои дела, а потом вот так просто отрёкся. Просто бросил посреди незнакомой улицы, как использованный презик. Этот сукин сын не дождётся того, что я реально просто забуду это. Он ещё пожалеет, что не пристрелил меня, как планировал. И я всё равно увижу его лицо. Слишком любопытна, чтобы не довести это дело до конца.
И обязательно трахну его, вот точно!
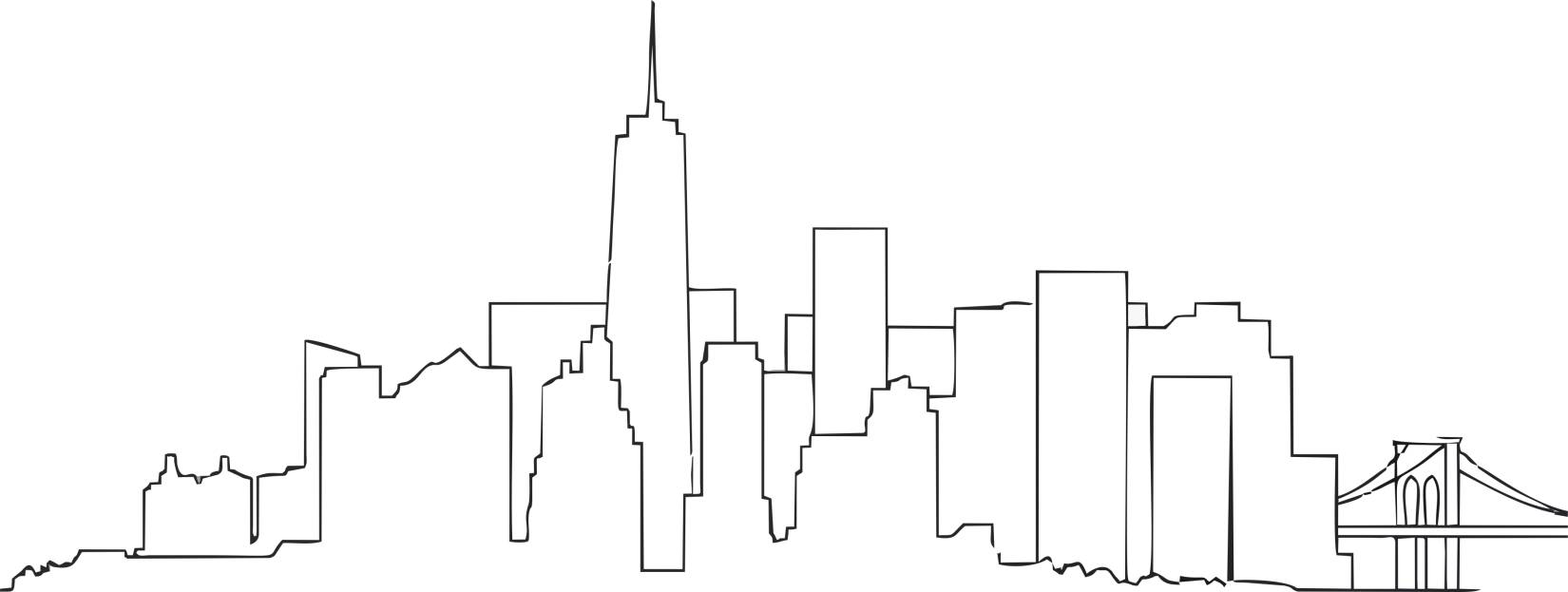
ХРЕНОВОЕ ПРОШЛОЕ
Стены здесь серые. Всегда серые. Как небо в тот день, когда меня сюда привезли.
Мне было совсем мало, я ещё не умела говорить. Только плакать. Но никто не приходил. Иногда какая-то женщина в белом халате брала меня на руки, кормила. Она не улыбалась. Никогда.
Сейчас мне пять. Я знаю, что меня зовут Нова. И знаю, что я никому не нужна. Другие дети приходят и уходят. У них появляются мамы и папы. Они забирают их, увозят в машины, наполненные игрушками и воздушными шариками. Я смотрю им вслед, прижавшись носом к холодному стеклу.
Сегодня у Майлы день рождения. Ей семь. Пришла её новая мама. Молодая, красивая, с добрыми глазами. Она принесла Майле куклу в розовом платье и большой торт со свечками. Майла смеётся и обнимает свою маму.
Миссис Харпер замечает меня и резко одёргивает за руку:
– Чего вылупилась? Иди убирай свои игрушки! Тебе никто праздники устраивать не будет.
Её слова колют. Я опускаю глаза и иду собирать разбросанные кубики. Обижаясь на неё.
Вечером, когда все уже спят, я плачу в подушку. Подушка пахнет слезами. Моими слезами. И слезами всех детей, которые жили здесь до меня.
Миссис Харпер проходит мимо, не глядя на меня, бросает:
– А ну тихо! Ещё одна слезинка, и завтра останешься без ужина.
Я закусываю губу, чтобы не всхлипнуть. Мне кажется, эта комната пропитана печалью. И я тоже часть этой печали. Навсегда.
Проходят годы. Серые стены становятся частью меня, как и вечная пустота внутри. Мне уже десять. Я научилась не плакать. Научилась прятать свои чувства за маской безразличия. Это единственный способ выжить здесь. Взрослым нравится смотреть на слёзы. Они как будто подпитываются ими. И миссис Харпер всё та же — жёсткая, холодная. Кажется, ей доставляет удовольствие делать нам больно
В один солнечный день она отбирает у меня рисунок, единственную вещь, которая напоминает мне о родителях, которых я никогда не знала. Рисунок сделан на клочке старой газеты, нарисован обломком карандаша. На нём — женщина с длинными волосами и улыбающимися глазами и мужчина в костюме. Я придумала их сама. Представила, как бы папа с мамой могли выглядеть. Может быть, однажды меня тоже заберут.
– Что это за мазня? — фыркает миссис Харпер, скомкав рисунок в своей большой руке. — Думаешь, кто-то заинтересуется твоими каракулями? Никому ты не нужна, запомни это.
Я молчу, глядя на то, как она бросает скомканный рисунок в мусорное ведро. Вместе с ним туда падает и крошечная частичка моей души.
Вечером я лежу, уставившись в потолок. Сквозь затянутое пыльной сеткой окно пробивается тонкий лучик лунного света. Он напоминает мне слезу. Я закрываю глаза. И впервые за много лет позволяю себе мечтать. Мне снится мама. Она гладит меня по голове и тихо поёт колыбельную. Её голос тёплый и ласковый. Впервые за долгие годы я чувствую себя в безопасности.
Но потом я просыпаюсь. Серые стены напоминают мне, где я. И кто я. Никому не нужная девочка Нова из группового дома.
Теперь мне тринадцать. Возраст, когда девочки начинают мечтать о красивых платьях, о первой любви, о будущем. Я же мечтаю лишь о том, чтобы меня хоть кто-нибудь обнял. По-настоящему.
У нас появляется новенькая. Её зовут Тиган. Ей тоже тринадцать. У неё светло-зелёные глаза и россыпь веснушек на носу. И красивые волосы, похожие цветом на осенние листья. Она улыбается. Много улыбается. Это странно. Здесь не принято улыбаться.
– Привет, – робко говорит она мне, протягивая руку. – Меня зовут Тиган.
Я молча смотрю на её протянутую руку. Не знаю, что делать. Меня никто никогда не приветствовал так… по-доброму.
– Нова, – шепчу я наконец и пожимаю её руку. Её ладонь тёплая в отличие от моей.
Мы быстро становимся подругами. Тиган много рассказывает о своей жизни до группового дома. О своих родителях, о собаке, о доме с вишнёвым садом. Слушая её, я закрываю глаза и представляю себе всё это. Каково это – жить в доме с вишнёвым садом?
Из её рассказов я узнаю о том, что её мама, одинокая и измученная борьбой с зависимостью, потеряла право опеки. Нет ни бабушек, ни тётушек, никто не может приютить Тиган. Социальные службы посчитали, что групповой дом – лучший вариант, пока мама проходит реабилитацию. Тиган верит, что это временно, что скоро они снова будут вместе. Эта вера и делает её улыбку такой яркой, такой необычной для этого места.
Однажды миссис Харпер замечает, как Тиган обнимает меня, пытаясь утешить после очередных нападок со стороны воспитателей.
– Прекратите эти телячьи нежности! – рявкает она, её голос, как всегда, режет по ушам. – Дружба здесь ни к чему хорошему не приводит. Только плодит слабаков.
Тиган испуганно отодвигается, её улыбка гаснет. А я привыкла и просто киваю в ответ.
Недели текут одна за другой, серые и безликие, как вода из старого крана в умывальнике. Тиган понемногу меняется. Её яркая улыбка появляется всё реже, зелёные глаза тускнеют, словно кто-то задёрнул на них серую занавеску. Она перестаёт рассказывать о вишнёвом саде и собаке Бадди. Но о маме никогда не забывает.
Однажды я нахожу её в углу игровой комнаты, обхватившую колени руками. Её плечи дрожат.
– Что случилось? – тихо спрашиваю я, присаживаясь рядом.
Тиган поднимает на меня заплаканные глаза.
– Мама… она… она не позвонила… Уже месяц… она обещала…
Я просто обнимаю её. И в этот момент мне всё равно, что увидит миссис Харпер. В этот момент мне важно только одно – чтобы Тиган почувствовала, что она не одна.
Я слишком хорошо знаю, что значит быть одной.
– Она позвонит. Обязательно позвонит. Просто… просто сейчас у неё, наверное, много дел.
Тиган утыкается мне в плечо и плачет навзрыд. А я глажу её по волосам и думаю о том, как несправедлива жизнь. Почему одним детям достаются любящие семьи, тёплые дома и вишнёвые сады, а другим – только серые стены, холодные взгляды и вечная пустота внутри?
Через месяц её забирают. Просто приходят однажды утром, собирают её немногочисленные вещи и уходят. Без прощаний, без объяснений. Как будто её здесь и не было. Только пустая кровать в углу комнаты напоминает о том, что совсем недавно здесь жила девочка с зелёными глазами и россыпью веснушек на носу. Девочка, которая верила в вишнёвый сад и счастливое будущее.
А потом мне передают письмо. Короткое, написанное неровным, детским почерком. Тиган пишет, что они с мамой вместе. Что мама устроила свою жизнь, нашла квартиру и работу. Теперь у них маленькая квартирка, совсем не такая, как их старый дом, но зато наконец всё хорошо. В конце письма Тиган пишет:
«Спасибо тебе. Ты мой единственный друг».
Я перечитываю это письмо снова и снова, пока буквы не расплываются перед глазами от слёз. Слёз радости за Тиган и слёз горечи за себя. Её история, хоть и с трудом, но всё же закончилась хорошо. А моя история продолжает быть серой и унылой.
– Даже дочь чёртовой наркоманки теперь живёт в собственном доме, – злорадно усмехается миссис Харпер, и я понимаю, что письмо она мне отдала только ради этого. – А ты так и останешься гнить здесь. А потом тебя вышвырнут на улицу к бездомным собакам.
Я сглатываю. Мне становится ещё хуже.
Однажды миссис Харпер решает, что я украла браслет у одной из девочек. Тоненький, серебряный, с маленьким сердечком – это единственное украшение у девочки по имени Ева, и она дорожит им как сокровищем. Я не брала его, но мне никто не верит. Миссис Харпер, не тратя время на расспросы, велит мне выставить руки перед собой и несколько раз бьёт ремнём по ладоням. Острая боль пронзает пальцы, кожа краснеет и начинает гореть. Я сжимаю зубы, чтобы не закричать, хотя кричать хочется сильно.
– Не убирай их! – кричит воспитательница, когда я автоматически одёргиваю руки.
И бьёт меня ремнём по животу. На мгновение прогибаюсь, а потом поспешно выпрямляюсь от страха получить ещё удар – более болезненный. Выставляю послушно руки. Они уже красные, в некоторых местах кожа порвалась и кровоточит. И миссис Харпер снова бьёт по ним, по свежим ранам, а я вонзаю зубы в губы, жмурясь, пока из глаз не начинают катиться слёзы. Она шипит что-то про непослушание, про то, что я должна знать своё место. Её слова сливаются в неразборчивый гул, боль заглушает всё остальное. Наконец она останавливается, тяжело дыша. Смотрю на свои истерзанные руки, на красные полосы. Сглатываю подступившую к горлу тошноту.
Браслет так и не находят, а Ева ещё долго косится на меня с подозрением. Руки у меня болят ещё несколько часов. На коже живота остаются кровоподтёки. В такие моменты я особенно остро чувствую своё одиночество и свою ненужность.
В этом мире, за серыми стенами группового дома, царят свои жестокие законы. Воспитатели нас не любят и используют своё место для того, чтобы издеваться над нами, словно стая волков, высматривающая добычу среди особенно слабых.