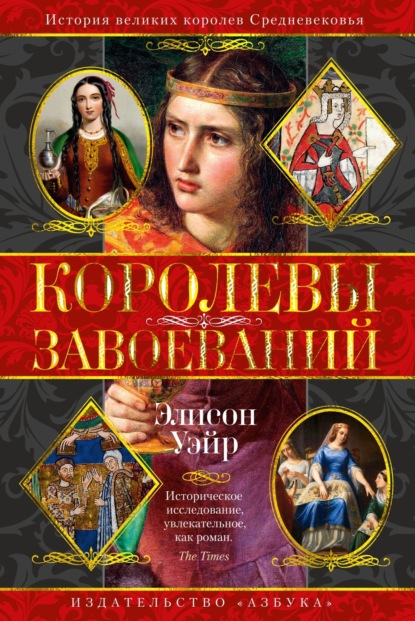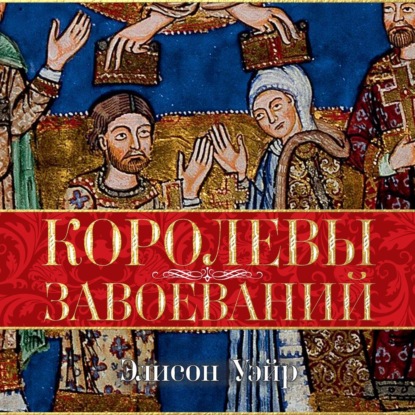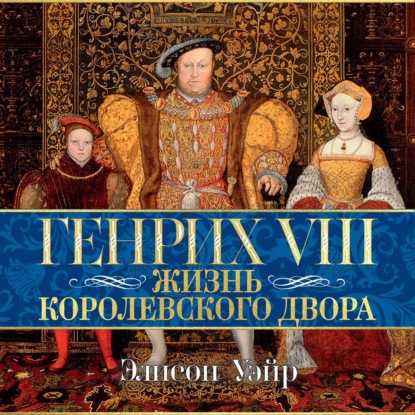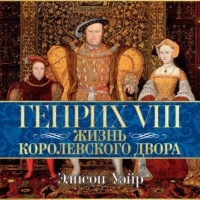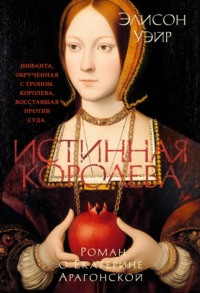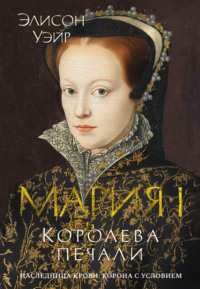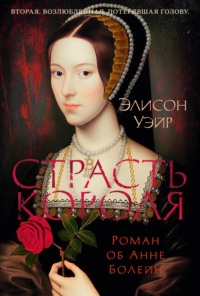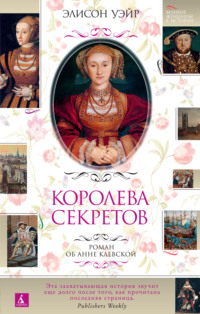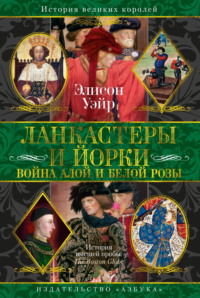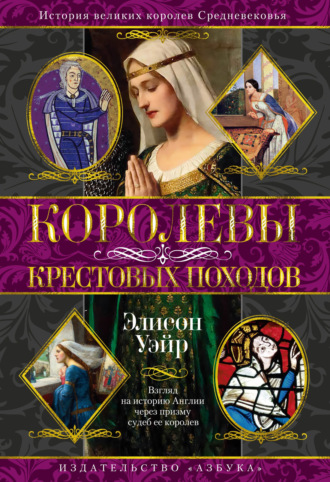
Полная версия
Королевы Крестовых походов
Английский король владел землями на юге Франции, и на протяжении первой половины правления Плантагенетов королевские браки заключались с целью защиты этих владений. Первые пять королев были уроженками Южной Европы – Франции, Наварры и Испании. Они принесли с собой утонченную культуру своих регионов, торговые возможности, византийские и мавританские традиции и более цивилизованный быт.
Жизнь королевы состояла из предписанных ритуалов: коронации, рождения детей, исполнения религиозных обрядов, участия в публичных церемониях и ходатайств перед королем от имени третьих лиц. Королеву возвышала ее роль жены и матери, но она была обязана подчиняться королю – теоретически абсолютно во всем. Если королева злоупотребляла влиянием, это вызывало неодобрение. Предполагалось, что ее власть является ограниченной. Королева могла представать перед подданными в блеске величия рука об руку с королем, но это была всего лишь иллюзия.
Предполагалось, что средневековые королевы олицетворяют добродетели Девы Марии, о чем ясно свидетельствовал обряд коронации. Для подданных короля его супруга являлась милостивым, отзывчивым и милосердным воплощением образа Богоматери. Обычай требовал, чтобы замужние женщины прикрывали волосы, но королевы могли носить их распущенными в знак своей символической девственности.
Во время коронации королев призывали подражать библейской царице Есфири, которая была смиренной, непритязательной, сдержанной, послушной и скромной, но при этом обладала достаточной внутренней силой, чтобы спасти иудейский народ от гнева супруга. Она была мудра, справедлива, сострадательна, вдумчива, полна духовной красоты и наделена всеми чертами характера, необходимыми для идеальной средневековой королевы. Тех, кто не оправдал ожиданий, сравнивали с Иезавелью – наиболее одиозной библейской царицей.
Королева могла упрочить репутацию мужа публичными благочестивыми деяниями и актами благотворительности, а также укрепить свои позиции заступницы. Богатство позволяло ей помогать менее удачливым подданным короля. Ее ходатайства от имени третьих лиц давали возможность монарху проявлять снисходительность без ущерба для своего авторитета. В этом случае король и королева выглядели в глазах подданных проводниками милосердия. От королевы также требовалось публично поддерживать связь с духовенством, присутствовать на церемониях интронизации епископов и освящения соборов, посещать святые места и совершать пожертвования религиозным обителям. Участие в подобных мероприятиях окружало королеву аурой святости и наделяло особыми привилегиями. Разумеется, некоторые королевы превышали свои полномочия и вмешивались в процедуру распределения церковных должностей.
Ложе короля было символом его величия, а опочивальня – местом проведения собраний. Ложе королевы представляло основу ее авторитета. Спальня королевы являлась не только ее личной территорией, но также средоточием ее власти, местом, где она исполняла супружеский долг и производила на свет наследников. Поэтому неудивительно, что королева принимала просителей рядом с кроватью. Осуществляя патронаж, она могла расширить свое влияние и заручиться поддержкой.
Королева учреждала собственный суд на землях, дарованных королем в качестве свадебного подарка, и назначала должностных лиц, которые рассматривали ходатайства и вершили правосудие от ее имени. По закону королева Англии имела право распоряжаться личной собственностью. Средневековые королевы получали доход от земель, закрепленных за ними после вступления в брак. Помимо этого, они располагали содержанием и рядом других привилегий, в том числе правом на «золото королевы» (queen-gold) – десятую долю каждой добровольно выплаченной короне пошлины свыше десяти марок (£4,9 тысячи), например при помиловании или выдаче разрешений, а также на десятую часть от налогов, которыми обложили евреев.
Предполагалось, что свадебный подарок должен обеспечить королеву, если она овдовеет, но она явно могла пользоваться этими землями и деньгами, которые получала в качестве ренты и прочих выплат, на протяжении всей своей жизни. Тем не менее первые королевы Плантагенетов не распоряжались землями, полученными в дар по случаю свадьбы, при жизни мужей. Королева сама оплачивала свою одежду, драгоценности и подарки, но ее ежедневные расходы на еду, милостыню для бедных, а также жалованье и ливреи для слуг покрывал король.
На Рождество 1154 года Генрих и Алиенора председательствовали на большом суде в Вестминстере, где присутствовали крупнейшие бароны и прелаты Англии. Генрих понимал, что ему необходимо восстановить доверие общества к монархии, взяв под строгий контроль государственные дела и призвав к порядку магнатов. Поэтому он немедленно приступил к борьбе с пороками и упадком, которые поразили страну, а также к работе по организации надлежащего управления. Король начал с того, что приказал разрушить 1100 замков, построенных без разрешения, чем «заслужил похвалу и благодарность миролюбивых людей»58.
Генрих «приложил немало усилий, чтобы возродить силу английских законов. Он назначил судей и судебных чиновников по всему королевству, чтобы обуздать произвол нечестивых людей и вершить правосудие в отношении тяжущихся сторон»59. Он часто ссылался на законы и обычаи своего кумира, Генриха I, и был полон решимости их восстановить и соблюдать. Он создал правовую систему, в рамках которой королевские судьи посещали все регионы страны, чтобы обеспечить повсеместное поддержание общественного порядка и отправлять правосудие в ходе выездных судебных сессий. Генрих постепенно заменил испытание Божьим судом на суд присяжных. Именно во время его правления были заложены основы английского общего права.
Генрих реформировал финансовую систему, которая пребывала в хаосе. Он ввел новые налоги, приказал чеканить более чистую монету и позаботился о том, чтобы все королевские доходы поступали в казначейство. Его политика привела к резкому росту торговли и процветанию, а королевский доход, в 1154 году составлявший двадцать две тысячи фунтов стерлингов (£16 миллионов), к концу правления Генриха II увеличился до сорока восьми тысяч (£35 миллионов).
От внимания короля не ускользал ни один аспект государственного управления. Вскоре после восшествия Генриха на престол в народе заговорили, что девственница теперь может спокойно пересечь королевство, имея за пазухой груду золота, а злые бароны исчезли как морок60. К лету 1155 года в Англии восстановился порядок, причем такой основательный, что мир сохранялся почти два десятилетия. Неудивительно, что современники считали Генриха «величайшим из земных государей»61.
Генрих раздавал обильные пожертвования Церкви. Он преподносил щедрые дары аббатствам Фонтевро, Рединг (там был похоронен Генрих I) и Гранмон в Лимузене, которым благоволил. Королевская чета выделяла средства больницам для прокаженных в Кане, Анжере и Ле-Мане, а Алиенора покровительствовала больнице Святого Эгидия близ Лондона (Сент-Джайлз-ин-зе-Филдс), которую основала Матильда, королева Генриха I.
Хронисты, однако, были шокированы антиклерикальными выходками короля. Гиральд порицал Генриха за богохульство и насмешки над духовенством. Людовик VII, по словам Гиральда, не клялся – в отличие от некоторых государей – глазами, ногами, зубами и глоткой Господа, а его эмблемой были не медведи и львы, а простая лилия. Упоминая львов, Гиральд намекал на королевский герб. Генрих, очевидно, заимствовал отцовский герб с тремя львами, унаследованный от Генриха I, а эмблемой Алиеноры являлся золотой лев на красном поле. В 1172 году Алиенора станет первым членом королевского дома, который выставит напоказ геральдическую эмблему в виде трех львов.
Генрих усердно трудился, чтобы установить свою власть над Англией, но его главной заботой оставался континент: управлять владениями на материке оказалось труднее, чем островным королевством. Особенно много хлопот доставляла Аквитания, которая вечно бунтовала. В эпоху неразвитых путей сообщения и каналов связи удержание столь удаленных друг от друга территорий под контролем было сопряжено со множеством практических трудностей, но Генрих, с его кипучей энергией, всячески стремился их преодолеть. Он постоянно находился в разъездах, укрепляя свою власть в различных землях. Король Людовик поражался скоростью перемещений Генриха: «Он то в Ирландии, то в Англии, то в Нормандии! Он, должно быть, не путешествует верхом или на корабле, а летает по воздуху!»62
Когда Алиенора в возрасте тридцати лет стала королевой Англии, ее имя уже вошло в легенды. В Германии ее красоту воспели анонимные авторы сборника студенческих песен, известного под названием «Кармина Бурана»:
Когда б я был царем царей,владыкой суши и морей,Любой владел бы девой.Я всем бы этим пренебрег,когда б проспать бы ночку смогС английской королевой[5] 63.В Англии и во Франции Алиенору прославляли в более традиционной манере, как, например, Бенуа де Сент-Мор в «Романе о Трое», посвященном королеве:
Госпожа доблестная и высокородная,Честная, чуткая, благородная,Правом и совестью направляемая,По красоте и щедрости недосягаемая,Та, кто достойным примером является,Кому подражать дамы рьяно стараются;Та, в ком гнездится ученость мудреная,Никем по сю пору непревзойденная;Хозяйка богатств и жена богача-короля,Пусть не омрачат ни единого дняНи гнев, ни тоска, ни страдание,Да будет полна твоя жизнь ликования.Филипп де Таон, ранее посвятивший свой «Бестиарий» Аделизе Лувенской, второй супруге Генриха I, переписал в честь Алиеноры введение к трактату, также придерживаясь хвалебного тона:
Храни, Господь, Алиенору – непревзойденный образецУма, щедрот, очарованья, чести и несравненной красоты венец.Вы родились в счастливый час,И славный Генрих в жены выбрал вас.Несмотря на будущую славу Алиеноры, летописцы Генриха II упоминали о ней только для того, чтобы задокументировать присутствие супруги рядом с королем, рождение детей, а также ее проступки. Поэтому некоторые биографы пришли к выводу, что Алиенора не располагала политической властью. Тем не менее, хотя формально королевы не играли значимой политической роли, в официальных документах и трудах Иоанна Солсберийского, секретаря архиепископа Теобальда, есть свидетельства того, что Генрих предоставлял Алиеноре почти равную автономию в принятии решений и административных вопросах, особенно во время своих частых отлучек за границу.
Вплоть до 1163 года, даже когда король находился в Англии, Алиенора издавала многочисленные официальные документы и предписания от своего имени и скрепленные ее личной печатью. Иными словами, она эффективно помогала супругу в управлении владениями Плантагенетов, особенно Аквитанией.
Но большинство хронистов странным образом умалчивают об этом, возможно из-за предубеждения против женского пола, а также из-за того, что достижения Генриха затмевают успехи его супруги. Те редкие замечания, которые хронисты отпускали в адрес Алиеноры, весьма познавательны. Томас Агнелл, архидиакон Уэлса, назвал ее «в высшей степени проницательной», а Гервасий Кентерберийский описал ее как «очень умную женщину, рожденную в благородной семье, но слишком ветреную».
В 1156 и 1158 годах, когда Генрих находился на континенте, Алиенора исполняла в Англии обязанности регента. Во время прочих отлучек короля вплоть до 1163 года она выступала в роли соправительницы юстициария, главного королевского министра, и даже иногда отменяла его решения. Алиенора была наделена правом защищать королевство, если возникнет необходимость, и предпринимать военные действия, опираясь на помощь доверенных советников Генриха и «под верной опекой архиепископа Кентерберийского»64. Она занималась рутинными делами, выполняла приказы, которые король направлял из-за границы, одобряла действия министров, выступала арбитром в юридических спорах и контролировала финансовые счета. Иногда она председательствовала в судах и вершила правосудие в Вестминстере, Шербуре, Фалезе, Байе и Бордо. По словам Иоанна Солсберийского, Алиенора назначала епископов и обладала всей полнотой королевской власти. Ее постановления записывал секретарь, господин Мэтью. Ее письма, продиктованные писцам на латыни, подписаны «Алиенорой, милостью Божьей королевой Англии», хотя и не собственноручно. Самой ранней сохранившейся подписью английской королевы является росчерк Жанны Наваррской, датированный XV веком.
Когда епископ Вустерский воспротивился попыткам Алиеноры продвинуть своего секретаря Соломона, «ученого и благородного мужа», на место архидиакона Вустера, в дело вмешался архиепископ Теобальд. Примас указал епископу, что таково желание короля и королевы. «Возможно, вы скажете, что господин Соломон не заслуживает подобной милости, поскольку он настроил против вас королеву. Но разве это не равноценно обвинению королевы во лжи? Ведь она отрицала все упреки [в адрес своего секретаря] в вашем присутствии». Тем не менее епископ отказал Соломону в назначении65.
Алиенора была нетерпима к любой несправедливости. Это явствует из писем, в которых идет речь о вмешательстве королевы в споры. Одно из них было адресовано Джону Фиц-Ральфу, барону из Лондона:
Я получила жалобу от монахов Рединга о том, что их несправедливо лишили ряда земель в Лондоне. Я приказываю вам незамедлительно разобраться в вопросе. Если нарушение закона окажется правдой, я настоятельно призываю вас позаботиться о том, чтобы монахам без промедления вернули их земли и чтобы в будущем я больше не слышала жалоб на недостаток правосудия. Я не потерплю, чтобы монахов несправедливо лишали того, что принадлежит им по праву. Всего наилучшего.
Еще одно письмо было отправлено рыцарям и ленникам аббатства Абингдон:
Я приказываю, чтобы по справедливости и без промедления вы дали согласие оказывать Воклену, аббату Абингдона, те же услуги, которые предоставляли ваши предки во времена короля Генриха, деда нашего верховного повелителя. Если вы этого не сделаете, вас постигнет и вынудит к этому правосудие короля и мое собственное.
Тон этих писем не похож на обращение женщины, чья власть ограничена узкими рамками. Это голос правительницы, которая действует сообща с мужем и уверена в праве требовать исполнения своих указаний. В письме шерифу Суффолка Алиенора отчитала его за неповиновение приказу Генриха, «что очень не понравилось моему господину королю и мне. Если вы не соизволите [подчиниться], [над вами] свершится правосудие короля»66. Обращаясь к одному из шерифов Лондона, она повелительно прикрикнула: «Пока вы не обеспечите исполнение королевского правосудия в Лондоне, я не желаю больше слышать жалоб на несоблюдение законов»67.
Однако Алиенора обладала врожденной добротой. Однажды на дороге близ Абингдона она нашла брошенного ребенка и пристроила его в монастырь на воспитание. Будущее покажет, что она также жалела тех, на кого налагался интердикт.
6. Хозяйка богатств и жена богача-короля
Королева Алиенора была богата. Ее годовой доход оценивался в четыреста фунтов стерлингов (£292 тысячи), что в два раза превышало средний доход барона. Вступив на престол, Генрих обеспечил супругу ежегодным денежным содержанием, а также одарил замками, городами, земельными владениями и поместьями[6]. Самым ранним сохранившимся документом о свадебном подарке английской королевы является хартия Изабеллы Ангулемской, жены короля Иоанна, в которой говорится, что Изабелле предоставили такие же права и имущество, как Алиеноре. Алиенора получила земли, прежде закрепленные за женами Генриха I и Стефана. Эти владения традиционно входили в состав свадебного подарка королевы, причем передача некоторых земель состоялась еще в саксонские времена.
Поместья в составе свадебного подарка обеспечивали королеву значительным доходом в виде ежегодной ренты, налогов и готовой продукции, а также предоставляли дома, в которых королева останавливалась во время своих путешествий. Тем не менее Алиенора не имела контроля над этим имуществом до смерти Генриха. При жизни супруга доходы королевы поступали в «Палату шахматной доски»[7], откуда их часть шла на оплату текущих расходов на ведение домашнего хозяйства, а также на жалованье слугам и чиновникам, управляющим поместьями королевы. Если ей требовались деньги на личные расходы, их выдавал королеве хранитель королевского гардероба[8]. Только в XIII веке королеве Англии разрешили распоряжаться своими поместьями и доходами.
Но Алиенора получала доходы также из других источников. По «обычаям королевства»68 она имела право на «золото королевы», что составляло значительную часть поступлений в ее казну. Эти деньги получал секретарь «Палаты шахматной доски», которого назначала сама королева. Взимание «золота королевы» было неблагодарной задачей, потому что этот побор не пользовался популярностью.
Королева располагала собственным штатом прислуги и чиновников, включая казначея, канцлера, поверенных и секретарей, надзиравших за ее поместьями. За текущее ведение дел в поместьях отвечали управляющие и бейлифы, или судебные приставы. В состав личных слуг королевы входили камергер, виночерпий, рыцари, эсквайры, капелланы, дамы, незамужние барышни и конюший – всего около сорока человек, в том числе английские слуги, пуатуские рыцари и писцы.
Алиенора отличалась благочестием и щедро жертвовала религиозным обителям, особенно в Пуату и Аквитании, где она подносила богатые дары и предоставляла привилегии многим церквям и аббатствам. Ходили неподтвержденные слухи, что Алиенора построила крошечную церковь Сен-Пьер-де-Мон близ Белена, где, как утверждали местные летописцы, хоронила своих «многочисленных бастардов». Учитывая, что жизнь королевы протекала у всех на виду, маловероятно, что она могла произвести на свет даже одного бастарда, не говоря о нескольких, без того, чтобы словоохотливые хроникеры эпохи не увековечили этот вопиющий факт.
Особенно много благ патронаж королевы принес аббатству Фонтевро. Алиенора пожаловала ордену земли и наделила обитель правом брать древесину и дрова из своих личных лесов. Около 1195 года она построила для монахинь большую восьмиугольную кухню с пятью каминами и двадцатью дымоходами, которая стоит до сих пор. Она также возвела вокруг обители стену. Благодаря покровительству Алиеноры престиж Фонтевро значительно вырос, а за аббатством закрепилась слава аристократического заведения, модного среди дочерей государей и знати.
В 1177 году Генрих II, щедрый покровитель Фонтевро, основал совместно с Одебюрж де От-Брюйер, настоятельницей Фонтевро, подчиненный аббатству приорат Эймсбери в графстве Уилтшир, благотворительницей которого стала Алиенора. Однако королева не поладила с приорессой, которая вышвырнула из Кентерберийского собора псаломщика, «действуя грубо и вопреки закону, чем оскорбила Святую Римскую церковь и его величество короля», как утверждал архиепископ Теобальд. Это был не единственный проступок приорессы, к тому же отказавшейся подчиниться приказу Алиеноры и организовать восстановительные работы, которые король постановил провести в церкви приората. «Если госпожа королева назначит вам заслуженное наказание за нарушение королевского указа, мы его одобрим!» – провозгласил Теобальд69.
Алиенора и Генрих поддерживали дружеские отношения с Гильбертом Семпрингемским, основателем ордена гильбертинцев, которого позднее причислили к лику святых. В 1160-х годах, когда его конверзы, раздраженные бедностью, обвинили монахинь и каноников в блуде, король и королева встали на сторону Гильберта, а пять епископов признали обвинения необоснованными.
Утверждалось, что Генрих II был более образован, чем европейские монархи его эпохи. Свободное время «он посвящал чтению или разбору мудреных вопросов вместе с секретарями»70. Он покровительствовал поэтам и литераторам, особенно тем, кто прославлял короля и династию.
Алиенора, несомненно, оказывала просвещенное влияние на культурную жизнь при дворе. Однако до недавнего времени историки преувеличивали ее роль как покровительницы литераторов. Свидетельства, что Алиенора заказывала какие-либо труды, отсутствуют, хотя несколько писателей и поэтов адресовали ей свои произведения. Среди них был нормандец Роберт Вас, уроженец острова Джерси, который около 1155 года написал «Роман о Бруте», почерпнув материал из «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского. Вас посвятил свой роман «благородной Алиеноре, королеве верховного короля Генриха, щедрой, милосердной, мудрой и добродетельной». Генриху II, который покровительствовал более широкому кругу литераторов, чем Алиенора, также нравились творения Васа. Король назначил поэта придворным чтецом, ответственным за чтение докладов. В 1160 году Генрих II повелел Васу написать рифмованную историю герцогов Нормандии под названием «Роман о Роллоне». Роллон был первым герцогом Нормандии и прямым предком Вильгельма Завоевателя. Рассказы о героических деяниях предков были частью литературных традиций, в которых воспитывались Генрих и Алиенора.
Другие произведения, посвященные королеве Алиеноре, включали рыцарские романы об Эдипе и Энее. В письме Пьера де Блуа говорится, что королеве нравились постановки мистерий и мираклей. Он поздравлял своего брата, аббата Гийома де Блуа, с успехом его трагедии «Флора и Марк», которую сыграли для королевы то ли в Вестминстере, то ли в Винчестере. Между 1163 и 1170 годом анонимная монахиня из Баркинга посвятила Генриху и Алиеноре Житие святого Эдуарда Исповедника, короля Англии.
С момента появления примерно в 1135 году книги Гальфрида Монмутского «История королей Британии» легенды о короле Артуре быстро завоевали в Англии популярность. Генрих изучал их в детстве, в то время как Алиенора, возможно, знала стихотворение Бернара де Вентадура, в котором он сравнивал свои чувства к прекрасной даме с трагической любовью Тристана и Изольды. Несколько историков высказывали предположение, что Алиенора вдохновила Васа на создание отрицательного образа Гвиневры. Когда поэт Лайамон около 1300 года написал свою версию «Брута», взяв за основу оригинал Васа, он изобразил Гвиневру порочной женщиной. Возможно, его тоже вдохновила Алиенора. Видимо, когда после смерти королевы ее репутация пострадала, пострадала и репутация вымышленной героини, с которой Алиенору соотносили.
Не позднее 1173 года поэт Томас написал роман о Тристане и Изольде, вероятно посвятив его королю и королеве. На иллюстрациях рукописи из собрания Национальной библиотеки Франции изображены Генрих и Алиенора, внимающие поэту, который декламирует историю Ланселота дю Лака.
Возможно, в 1170-х годах двор Алиеноры в Пуатье привлекал знатоков легенд об Артуре, хотя свидетельств этому мало, однако выданные замуж дочери Алиеноры и Генриха, несомненно, познакомили с этими легендами дворы Германии, Кастилии и Сицилии. Поэтесса Мария, которая провела бо́льшую часть своей жизни при английском дворе, написала пять повествовательных поэм в жанре ле о короле Артуре, Тристане и Изольде. Дочь Алиеноры и Людовика VII, Мария, графиня Шампани, покровительствовала Кретьену де Труа, написавшему по меньшей мере пять стихотворений, основанных на легендах об Артуре. Кретьен де Труа был первым, кто указал местом действия Камелот и рассказал о злосчастной любви Ланселота и Гвиневры.
За несколько десятилетий образ короля Артура вобрал и воплотил идеалы рыцарства и королевской власти. События его жизни воспринимались как факты истории, а писатели и поэты безудержно их приукрашивали. К 1170-м годам, во многом благодаря интересу со стороны королевской семьи, легенды об Артуре стали чрезвычайно популярны во всем христианском мире. Их рыцарская этика отражала аристократические ценности эпохи. Из-за множественных слухов о том, что Артур еще жив и ожидает на острове Авалон возвращения своего королевства, Генрих II инициировал поиски могилы мифического короля в аббатстве Гластонбери, которое, по мнению многих, являлось Авалоном, куда привезли смертельно раненного Артура. В 1191 году на глубине шестнадцати футов обнаружили кости предположительно Артура и Гвиневры, а также свинцовый крест с надписью: «Здесь, на острове Авалон, покоится Артур, знаменитый король». Вероятно, это была искусная подделка. Аббатство пострадало в пожаре 1184 года, паломники перестали его посещать, и доходы обители иссякли. Чудесное обнаружение останков пришлось очень кстати. Кости, подлинные или нет, были торжественно перезахоронены в часовне Пресвятой Богородицы, которая пережила пожар, как и останки Артура с Гвиневрой.
Вальтер Мап ворчал, что, хотя Генрих II любил ученость и покровительствовал просвещенным мужам, музы при его дворе процветали менее пышно, чем при любом другом. Возможно, двор английского короля являлся средоточием культуры, однако он не привлекал тех, кто привык к роскоши, поскольку представлял собой улей, где кипела бурная деятельность, окружавшая беспокойную особу короля. Согласно традициям Средневековья, королевский двор редко оставался на одном месте в течение долгого срока. Частые переезды были обусловлены интересами государства, необходимостью поиска хороших охотничьих угодий для короля, а также нуждами санитарии, поскольку в XII веке развитие канализации предполагало только наличие примитивных уборных и ночных горшков. Когда в доме на какое-то время размещались 250 человек, вонь становилась невыносимой, особенно летом.