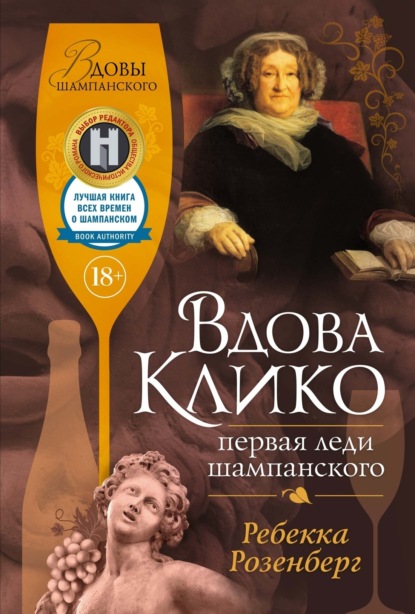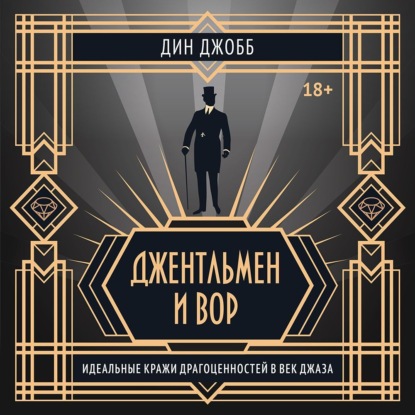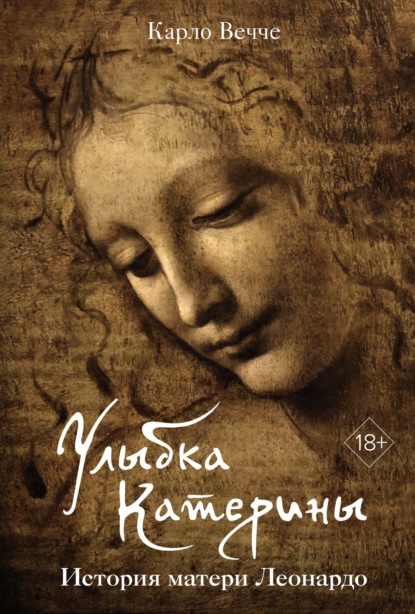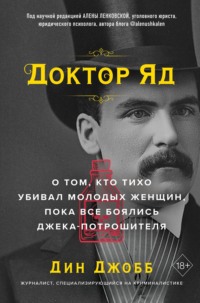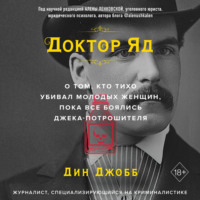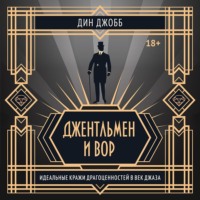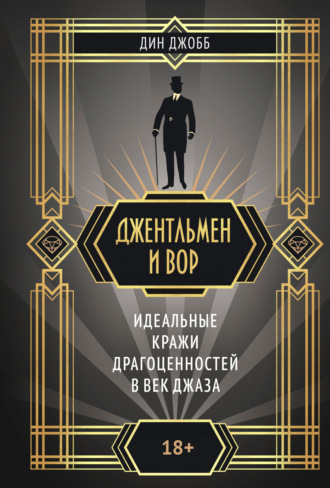
Полная версия
Джентльмен и вор: идеальные кражи драгоценностей в век джаза
Бэрри тоже обратил на них внимание. И на их украшения.
«Множество состоятельных женщин, приехавших в Нью-Йорк пройтись по магазинам, завершали свой маршрут в “Казино”, – вспоминал он. – Поэтому я тоже туда заглядывал, чтобы познакомиться с ними поближе. Приметив даму, усыпанную бриллиантами, я шел за ней до лимузина и записывал номер».
Потом направлялся к ближайшей телефонной будке и звонил в дорожную инспекцию – новое полицейское подразделение, созданное для наведения порядка в хаосе забитых автомобилями улиц Манхэттена. Он представлялся патрульным – одно из имен, которое он запомнил, было «патрульный Шульц», – и называл выдуманный номер жетона.
– У меня тут происшествие, – рявкал он в трубку, – и мне нужны имена и адрес хозяев одного «кадиллака».
Сотрудник на другом конце провода находил данные, и вскоре Бэрри знал, как зовут даму в бриллиантах и где она живет – это всегда оказывалась пышная усадьба в округе Уэстчестер или на Лонг-Айленде.
Для выяснения личности перспективных жертв – он предпочитал называть их «клиентками» – Бэрри прибегал к этой уловке многократно. «Инспекция никогда не давала себе труда проверить, что это за патрульный Шульц, – рассказывал он. – Мне просто называли имя и адрес». Однажды визит в «Казино» оказался весьма урожайным – полдесятка клиенток, и последовавшая серия домовых краж принесла ему семьдесят пять тысяч долларов.
* * *«Кража с проникновением, – отметил однажды Бэрри, – это на восемьдесят процентов подготовка и на двадцать – удача». Он всегда держал в голове урок, полученный от его ментора Лоуэлла Джека: «Хороший уровень готовности плюс скрупулезное планирование – вот краеугольный камень успешного дела».
Следить за нью-йоркской элитой оказалось делом несложным. В поисках наводок Бэрри внимательно просматривал страницы светской хроники, и ему нередко попадались полезные фотографии дам, щеголяющих своими самыми изысканными украшениями. «Репортеры светских разделов ежедневных газет, – признался он, – часто выступали моими невольными сообщниками». Он был в курсе, кто уезжает на лето в свои загородные виллы, кто решил провести зиму в Палм-Бич, кто путешествует по Европе, кто и в какой день принимает гостей. Обращал внимание на объявления о помолвке, на даты венчаний, на информацию о грядущих вечеринках, раутах, танцевальных приемах в богатых загородных клубах. Подобные сведения порой оказывались бесценными. «Я знал, что миссис Такая-То собирается в такой-то день устроить вечеринку, и даже при отсутствии списка гостей мне было прекрасно известно, с кем она дружит и кто почти наверняка будет там». Если оказывалось, что одна из потенциальных жертв – в ее самых дорогих украшениях – скорее всего, приедет туда, то кража переносилась на другой вечер, когда женщина со своими драгоценностями останется дома. «Какой смысл навещать дом, когда там нет миссис … с ее побрякушками?»
Нью-йоркский «Светский календарь» – выходивший дважды в год алфавитный список-справочник городских миллионеров и особ голубых кровей – тоже был вещью незаменимой. Как написал один обозреватель, этот перечень знаменитых имен и престижных адресов вызывал в воображении образы «старых денег, Лиги плюща, траст-фондов, привилегий по факту рождения, охоты на лис, первых балов, яхт, поло, прославленных основателей рода, закрытых имений в Андирондакских горах, родословных, испещренных именами магнатов XIX века». Нувориши и выскочки, горевшие желанием примкнуть к этому «реестру фешенеблей» – по выражению острого на перо публициста-сатирика Г. Л. Менкена – «совершали титанические усилия, лишь бы вставить туда свое имя».
А в воображении Бэрри этот список вызывал образы алмазов и жемчугов. По его словам, он наизусть знал целые крупные куски из «Календаря», собирая информацию о тех, кого приметил в «Казино» или увидел в газетах. Если это так, то его память можно считать феноменальной. Стандартное издание того времени состояло из примерно двадцати тысяч статей на семистах с лишним страницах. Больше пятидесяти страниц были посвящены одной только литере W.
Порой он ездил в Уэстчестер или на Лонг-Айленд, чтобы свести знакомство с молодой прислугой из роскошных вилл. Горничным, гувернанткам и поварихам льстило внимание учтивого, обеспеченного молодого человека – тем более на пафосном красном двухместном «кадиллаке» класса люкс за четыре тысячи. «После пары коктейлей я уже всячески им сочувствовал, выслушивая истории о несправедливости, а порой и жестокости хозяев, – вспоминал он, – составляя тем временем довольно полную картину распорядка жизни в их домах». Одна служанка проболталась, что ее хозяйка придумала средство от воров – прятать драгоценности на ночь в шелковый чулок, который засовывала под белье в корзину для стирки. Через пару ночей диковинный тайник наутро оказался пустым.
Однако в большинстве случаев Бэрри приходилось продумывать планы самостоятельно, без помощи невольных сообщников или инсайдеров. Он мог порой по нескольку дней вести наблюдение за домом, чтобы понять примерное расписание дня хозяев и прислуги. Часами сидя в кроне дерева или выглядывая из-за изгороди, он фиксировал время, когда кто-либо обычно покидал дом и когда возвращался. Готовясь к очередной массированной атаке на сокровища той или иной семьи, он порой совершал предварительные ночные проникновения, чтобы запомнить расположение комнат второго этажа и отметить про себя вероятные тайники. В один из домов в Ардсли, вспоминал Бэрри, ему пришлось проникать четырежды, но никак не удавалось понять, где именно хозяева хранят драгоценности, а что они где-то в доме, Бэрри не сомневался. Однако сдаваться он не желал и провел следующие пять вечеров на дереве, наблюдая за домом в бинокль. Наконец он увидел, как чья-то фигура в хозяйской спальне выдвигает ящик комода и, приподняв второе дно, достает шкатулку. В ту же ночь, дождавшись, когда все легут спать, он пробрался внутрь и изъял вожделенные сокровища.
Большинство хозяев домов при хранении своих драгоценностей вели себя куда менее осмотрительно. Бэрри нередко натыкался на дорогие украшения прямо на бюро или туалетном столике. Если же их куда-то убрали, значит, они почти наверняка в правом верхнем ящике туалетного столика в хозяйской спальне. «В девяти случаях из десяти, – говорил он, – именно там я и находил весь свой улов». Что бы он посоветовал тем, кто хочет понадежнее припрятать свои бриллианты? «Храните их на кухне».
Никаких проблем со сбытом своего «добра», как называл Бэрри краденое, он не испытывал. «Какие там проблемы! – отметил он однажды. – В те времена были скупщики, способные сплавить хоть статую Свободы». В Нью-Йорке 1920-х годов скупкой и продажей краденых драгоценных камней занимались, по словам Бэрри, сотни ломбардов, магазинов секонд-хенд, ювелиров – ему самому лично приходилось иметь дело не менее чем с пятьюдесятью из них. Некоторые камни – те, что покрупнее и поизысканнее – обычно уходили в Европу, где их подвергали переогранке и продавали, но основная доля его добычи оставалась в Нью-Йорке. Бутлегеры, например, покупали их для отмывания огромных доходов – припрятывали в сейфовых ячейках и по мере надобности обналичивали.
Однако из большинства камней и жемчуга делали новые ожерелья, броши и кольца, которые опять покупали состоятельные нью-йоркцы. Некоторые покупатели знали или подозревали, что вещь краденая. «Тех, кто хочет подешевле купить драгоценности, обычно мало заботит их происхождение, – писала в 1927 году газета “Бруклин Дейли Игл”, – и если на украшении нет каких-либо опознавательных знаков, они непременно воспользуются случаем и его купят». И не исключено, что эти камни в один прекрасный день вновь окажутся в кармане вора. «У камушков, – отмечал Бэрри, – причудливый жизненный путь».
Он внимательнейшим образом изучал не только своих будущих жертв, но и саму теорию ювелирного дела. Из иллюстрированного еженедельника «Джуэлерс секюлар» он узнал, как на стоимость камней влияют размер, цвет, чистота и то, насколько они редкие. «Я не упускал ни единого аспекта», – рассказывал он. Ведь чем больше знаешь, тем больше денег можешь требовать со скупщиков. Те же обычно соглашались выплачивать лишь небольшую долю от стоимости краденых камней – где-то от десяти до двадцати процентов, – а значит, если Бэрри хотел лучше заработать, ему требовалась добыча покрупнее. В золотую пору своей карьеры, в середине 20-х, он, по его собственным оценкам, добывал драгоценностей как минимум на полмиллиона долларов, что приносило ему ни много ни мало сто тысяч в год – полтора миллиона в сегодняшних ценах. «Главная сложность, – сетовал он, – найти скупщиков, имеющих под рукой достаточно наличных для моих объемов».
* * *Бэрри осваивал и совершенствовал новые приемы своего прибыльного ремесла. Он дал себе зарок ни за что не оставлять отпечатков пальцев и был буквально одержим перчатками. Он не снимал их даже в поезде по пути на дело и обратно: а вдруг проводник что-нибудь заподозрит, и тогда полиция найдет его отпечатки на отрывном талоне? К лестнице он голыми руками не притрагивался. Если в усадьбе был ночной сторож, Бэрри изучал маршрут его обхода территории и вычислял, в какое время лучше пробраться внутрь; лишь однажды – хвалился он – сторож застал его врасплох и ему пришлось удирать. Сторожевые собаки тоже не служили серьезной преградой – их несложно успокоить или войти к ним в доверие. У Бэрри был свой пес, и его запаха хватало, чтобы свирепый настрой сменился виляющим хвостом. Иногда, чтобы пес отвлекся и хоть какое-то время не вылезал из конуры, он приносил ему лакомство или приводил с собой суку. «Почти у всех сторожевые собаки – кобели, – отмечал он. – Это ошибка».
Он не жалел времени и труда на планы отхода. «Это обычный здравый смысл, – указывал Бэрри, – но некоторым жуликам попросту не хватает на него мозгов». Ведя разведку у очередной усадьбы, он всегда смотрел, где ближайший полицейский участок, и прикидывал, каким путем, скорее всего, поедет патруль в случае вызова. Если дом входил в маршрут полицейского обхода, он проникал туда, когда знал, что патрульный сейчас – в самой удаленной точке. «Всегда можно рассчитывать, что до прибытия полиции у тебя будет минут пять-десять, – отмечал он. – Хороший бегун, если он при этом пользуется головой, многое успеет».
Бэрри по несколько дней исследовал территории вокруг богатых анклавов в пригородах Нью-Йорка. Во время одной из таких вылазок он обнаружил скрытую в лесу тропинку, которая на протяжении около десятка миль – от Тарритауна до Йонкерса – шла рядом с основной дорогой, и порой, возвращаясь с успешной охоты, он ею пользовался, чтобы незаметно наблюдать, как навстречу со свистом несутся полицейские машины. Однако в большинстве случаев он предпочитал поезд, куда запрыгивал на мелких полустанках. При подготовке он изучал расписание и всегда знал точное время прибытия поезда, который быстро доставит его на Манхэттен. «На каждом деле, – хвалился Бэрри, – у меня все было распланировано поминутно – как на радио».
Что до систем сигнализации, Бэрри считал их лишь мелким неудобством. Отключить их, хвастался он, «практически детская работа». «Пинкертон», «Бернс» и прочие охранные компании нередко ставили таблички, предупреждая о сигнализации на территории. Предполагалось, что эти таблички отпугнут возможных незваных гостей, но для Бэрри эти предостережения служили подарком. «Они оказывали мне бесценную помощь», – отмечал он, ведь раз есть табличка, значит, в доме наверняка есть и ценности, достойные того, чтобы их охранять – и чтобы их украсть. Он заказал солидные визитки с логотипами крупных охранных фирм. Потом с визиткой в кармане спецовки и с сумкой инструментов в руках появлялся у входа в дом.
– Обслуживание сигнализаций, – объявлял он дворецкому или горничной, и его приглашали войти.
В доме его вели к шкафчику с главной панелью и тревожным звонком. На схеме обычно отмечались двери и окна, при открытии которых сигнализация сработает. «А дальше – секундное дело – перерезать пару проводков». В некоторых случаях он, оставляя провода нетронутыми, загибал язычок звонка, чтобы тот при срабатывании системы дергался беззвучно. «Простое решение, – объяснял он, – как с молоточком будильника: если его отогнуть, то не зазвонит». Завершая спектакль, он просил кого-нибудь из прислуги расписаться под документом, что система прошла проверку и находится в рабочем состоянии. Все готово – теперь через пару ночей сюда можно спокойно приходить.
Мастер в спецовке – это было лишь начало. Вскоре Бэрри изобретет куда более дерзкий сценарий, позволяющий просачиваться сквозь кажущуюся неуязвимость элегантных домов, которые он планировал обокрасть.
Глава 9. Американский Раффлс
Никто из гостей не мог припомнить этого привлекательного, обаятельного молодого человека, а вот он, похоже, знал всех. Он с легкостью присоединялся к светским беседам. Сыпал именами, болтал о пустяках. Он представлялся Артуром Гибсоном и, обладая изяществом и осанкой благовоспитанного джентльмена, постепенно превращался в эксперта по проникновению без приглашения на эксклюзивные лонг-айлендские вечеринки.
Артур Бэрри был интересным собеседниом, с которым комфортно. Он умел имитировать манеру речи гарвардских студентов – ему доводилось сталкиваться с ними в Массачусетсе, где он вырос. Внимательное изучение «Светского календаря» и газетной светской хроники превратило его в ходячую энциклопедию «Кто есть кто в высшем обществе Нью-Йорка». Он излучал самоуверенность и утонченность. В деловом костюме он выглядел неотразимо и больше походил на голливудского Бэрримора[16], чем на вустерского Бэрри.
В образе обходительного, добродушного Гибсона он запросто по-дружески общался с миллионерами, одновременно обдумывая, как бы половчее освободить их от бремени изысканных и дорогих ювелирных украшений. Особенно легко было попадать на светские приемы, когда их проводили в саду. «На этих вечеринках всегда полно народа и никто никого не знает». Он парковал свой «кадиллак» где-нибудь поблизости от усадьбы, перебирался через наружную стену, чистил щеткой смокинг. Прибыв на место, смешивался с приглашенными гостями. «Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд»[17], – так Фрэнсис Скотт Фицджеральд описывал в «Великом Гэтсби» блистательные «садовые вечеринки» в аристократических усадьбах Лонг-Айленда. Бэрри оставалось лишь влиться в поток.
«С коктейлем в руке я спокойно проходил в дом, – вспоминал он, – дабы запечатлеть в памяти его географию». Никем не замеченный, он беспрепятственно шел наверх в поисках мест, где хозяева могли держать драгоценности, и намечал маршрут, которому будет следовать, вернувшись сюда через пару дней с ночным визитом.
Порой Бэрри интересовала не планировка дома, а гости, и он высматривал «самые нарядно украшенные дамские шеи и пальцы». Любовался выставленными напоказ драгоценностями и сразу начинал планировать, как и где он ими завладеет. Говорят, чтобы попасть на приемы для самых избранных, ему иногда приходилось наряжаться в форму дворецкого, а по меньшей мере однажды выдать себя за священника, для чего он надел пасторский воротник, и его пригласили в дом, который он намеревался обокрасть.
Бэрри был «…аферистом с развитым интеллектом… с мягким нравом и изысканными манерами, – как отмечал его биограф Нил Хикки. – Скрупулезность, трезвость ума, шахматистское внимание к правилам – вот что составляло основу его метода».
«Он был безупречно воспитан, – вспоминал Роберт Уоллес, один из немногих журналистов, кому довелось лично с ним побеседовать. – Умел превосходно себя держать, был интереснейшим собеседником и отчасти денди».
«Элегантный дьявол, – так Бэрри однажды назвал сам себя. – Хладнокровный, словно ледяная вершина».
Бэрри совершал преступления столь же идеальные и безукоризненные, как камни, которые он крал. Он проникал в дома и в жизнь людей, но большинство жертв не догадывались о его визитах, пока не обнаруживали пропажу ценностей. Иногда в это время они ужинали внизу, а порой уже спали всего в паре дюймов от прикроватной тумбочки, из которой он тут же выгребал их драгоценности.
– Это ты, Пол? – спросила однажды женщина, разбуженная звуками его работы.
– Да, – ответил Бэрри полушепотом, но она не купилась и громко завизжала. Ему пришлось быстро ретироваться.
Еще был случай, когда он не удержался и оставил «визитную карточку». Вынув драгоценности из считавшегося надежным тайника, вырезанного внутри толстой книги, он положил на их место две сигареты. А как-то раз, приметив из машины легендарного частного сыщика Уильяма Бернса, проследил за ним до дома, а позднее «просто забавы ради» проник внутрь и прикарманил камней на несколько тысяч.
Однажды Бэрри обокрал уэстчестерский дом доктора Джозефа Блейка и его жены Кэтрин, тещи знаменитого композитора Ирвинга Берлина, но вскоре вернул по почте весь свой улов – драгоценности на сумму пятнадцать тысяч долларов. Этот поразительный и благородный поступок он объяснил единственной фразой: «Мы не забываем людей, которым обязаны». Возможно, его совесть пробудили газетные сообщения о краже, где упоминалось, что доктор в Первую мировую служил военным врачом во Франции.
Однако подобные сомнения посещали Бэрри нечасто. «Любой, кто может позволить себе ожерелье за сто тысяч, может позволить себе и его утрату». В похожем ключе рассуждает бывший профессиональный вор Джон Роби, персонаж Кэри Гранта из фильма Хичкока «Поймать вора» (1954): «Если на то пошло, – говорит он, – я не крал у людей, живущих впроголодь».
«Одна из моих главных заповедей: сохраняй спокойствие, – признался Бэрри. – Я никогда не давал волю лишнему азарту». Он утверждал, что ни одна из жертв не пострадала от его руки. У него обычно имелся при себе револьвер, но он, похоже, выстрелил из него только однажды – когда спасался от полиции. По его словам, пистолет служил лишь средством припугнуть «клиентку», заставить ее молчать, а «такт и учтивость» сделают все остальное. Кроме того, оружие было своего рода страховым полисом, крайним средством на случай, если его вот-вот арестуют и отправят в тюрьму. «Я порой думал, – объяснял он, – что покончу с собой, если арест будет неизбежен». Большинство его краж проходили без сучка без задоринки. Но порой случалось, что ему приходилось бросать начатое, а пару раз в него даже стреляли, но всегда мимо. Одна пуля прошла столь близко, что задела булавку для галстука. «Почувствовав неладное, я сразу же сматывал удочки, – рассказывал он».
Непокорный малолетний правонарушитель преобразился в галантного афериста высшего класса. Бэрри был хамелеоном, внешним видом и манерой речи неразличимым на фоне окружавшей его аристократической среды. Достойный искусного актера талант к перевоплощению совмещался в нем с ловкостью мошенника-виртуоза и коварным умом криминального гения.
Артур Бэрри был вором-джентльменом. Американским Раффлсом.
* * *Раффлса придумал британский писатель Эрнест Уильям Хорнунг. Поскольку его женой была Констанс Дойл, сестра Артура Конан Дойла, возник своеобразный, неожиданный сплав двух несовместимых литературных героев. «Великий детектив Шерлок Холмс и великий вор Раффлс, – указала “Нью-Йорк Таймс”, – стали своего рода двоюродными братьями».
«К чему работать, когда можно красть? – спрашивает лондонский джентльмен и звезда крикета А. Дж. Раффлс у своего друга Гарри Мандерса. – Разумеется, это дурно, но не всем же быть добродетельными, да и взять хотя бы наш принцип распределения богатства – разве это не дурно?» Так «взломщик-любитель» Раффлс в первом из двадцати шести рассказов о его приключениях логически обосновывает свою двойную жизнь (досужий джентльмен днем и взломщик сейфов с драгоценностями ночью), а также свою миссию перераспределения материальных благ.
Рассказы о Раффлсе, публиковавшиеся в период с 1898 по 1905 год в крупнейших журналах, а затем изданные в виде трехтомного сборника, пользовались огромной популярностью по обе стороны Атлантики. Критик Клайв Блум назвал его «последним викторианским героем и первым антигероем модернизма». Премьера пьесы по этим рассказам состоялась в Нью-Йорке в 1903 году, и затем труппа возила ее по всей Америке в течение трех лет. «История безупречного в социальном отношении персонажа, – отмечала “Таймс”, – была одной из самых нашумевших в театральном мире». В мире кино – тоже: среди сыгравших главную роль в немых киноверсиях был Джон Бэрримор. Спустя полвека после первого появления Раффлса, писал Джордж Оруэлл, «он по-прежнему остается одним из самых известных персонажей английской беллетристики»[18]. В 1905 году, в самый разгар первой волны Раффлс-мании, французский писатель Морис Леблан выпустил первое сочинение в длинной серии новелл и романов об Арсене Люпене, помеси Шерлока с Раффлсом, воре в цилиндре и с моноклем, который умел не только совершать преступления, но и раскрывать их. Этот бандит-джентльмен стал культурной иконой.
Раффлса зовут Артур – вероятно, почтительный кивок Конан Дойлу. В «Мартовских идах», первом рассказе цикла, оставшийся без средств Мандерс, которого Раффлс называет детской кличкой «Кролик», обращается к герою с просьбой спасти его от окончательного финансового краха, и тот вербует его себе в напарники. Мандерс потрясен, узнав, что у его школьного знакомца проблемы с деньгами не менее серьезны, чем у него самого, и именно благодаря преступлениям он способен оплачивать квартиру на фешенебельной Пиккадилли и держать марку. «Помимо собственной изворотливости, у меня нет решительно никаких источников дохода», – говорит ему Раффлс. Мандерс завороженно смотрит на их первый совместный улов после кражи в ювелирной лавке на Бонд-стрит. Раффлс выгребает на стол краденое добро. «Столешница переливалась блеском сокровищ», которые Мандерс перечислял: «кольца – дюжинами, бриллианты – десятками… бриллианты, испускающие разящие лучи; они ослепляли меня – слепили».
Раффлс считает, что стоит над законом, но твердо придерживается личного кодекса чести. Он верен друзьям, по-рыцарски великодушен с женщинами, чурается насилия и выбирает в жертвы, как правило, людей корыстных, коррумпированных и неприлично богатых – владельца рудников, например, который щеголяет своим неправедно нажитым состоянием, или аристократа, злоупотребляющего положением и властью. Что может быть лучшей мишенью для «основательно бессовестных» вроде него самого, рассуждает Раффлс в рассказе «Подарок на юбилей», чем драгоценности и дорогие побрякушки «бессовестно богатых»? И при этом ни одному истинному джентльмену даже в голову не придет злоупотребить гостеприимством. «Он может совершить грабеж в доме, куда приглашен в качестве гостя, – отмечал Оруэлл, – но жертвой будет лишь такой же гость, как он сам, хозяин – никогда».[19] Для джентльмена спортивная честь и чистая игра – превыше всего, даже если он мошенник, – а если не так, то это попросту «не по-крикетному».
Раффлс приобрел столь широкую популярность и известность, что само его имя «вошло в язык газетных передовиц», как писал журналист и эссеист Э. Дж. Либлинг. Если видишь в заголовке слово «Раффлс», значит, речь пойдет об учтивом воре, проникшем в высшее общество поживиться за счет богатых. Пресса начала соотносить преступления Бэрри с делами Раффлса уже в начале 1922-го, когда он проворачивал свои первые вечерние кражи в Уэстчестере. Бэрри слыхом не слыхивал о знаменитом персонаже и, озадаченный этими параллелями, однажды отправился в публичную библиотеку, где полистал одну из книг Хорнунга.
Несомненно, он был польщен. Кролик называет Раффлса человеком «невероятной дерзости и удивительного самообладания». Подобно самому Бэрри, он скрупулезно планирует свои кражи и по нескольку дней внимательно наблюдает за магазинами и домами, куда собирается проникнуть. Как и Бэрри, он предпочитает не носить оружия, а если и берет с собой пистолет, то надеется, что тот ему не пригодится. «Думаю, это придает уверенности»[20], – объясняет он Кролику после их первого дела. «Но случись что не так – легко оказаться в неприятном положении, даже пустить его в ход, а ведь это совсем не игрушка». В «Подарке на юбилей» Раффлс выносит из Британского музея изысканную золотую чашу, но потом проявляет патриотизм и возвращает ее королеве Виктории, «самой лучшей из возможных монархов», в качестве подарка на шестидесятилетие царствования. Когда Бэрри вернул Блейку его драгоценности, этот изящный жест был столь же великодушным и неожиданным.
В эпоху кровавых гангстеров и стрельбы направо и налево хитроумные кражи Бэрри выделяются на общем фоне. В 1925-м и начале 1926-го вооруженная банда во главе с Ричардом и Маргарет Уиттмор ограбила как минимум десять ювелирных магазинов, похитив драгоценностей на полмиллиона с лишним долларов. Они врывались с пистолетами наголо, запугивали продавцов, отвешивая удары рукоятками и «демонстрируя подавляющую мощь», как пишет Гленн Стаут, автор хроники их преступлений.
Роберт Лерой Паркер, известный под именем Буч Кэссиди, был бандитом-джентльменом, Артур Бэрри, воплощенный в реалиях Дикого Запада. В фильме «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) Пол Ньюман изобразил этого легендарного преступника, харизматичного главаря «Дикой банды» добросердечным и учтивым грабителем банков и поездов. Он был вежлив, благовоспитан, крайне редко прибегал к стрельбе и тщательно продумывал каждую операцию. «Мы извиняемся, – обратился он однажды к охранникам во время налета, – но нам известно, что вы сидите на огромной куче денег, а мы как раз сидим в огромной нужде». Один знакомый Буча описывал его как человека «на редкость приятного, обаятельного и даже культурного». Он, как и Бэрри, отбирал ценности только у тех, кто может себе позволить эти убытки, то есть в его случае – у неприлично богатых банкиров и железнодорожных магнатов. Рассказывают, что однажды, когда его банда ворвалась в очередной банк, чтобы взорвать сейф, сотрудники полезли в карманы за своими деньгами и ценностями. «Уберите! – приказал он. – Нам не нужно ваше, нам нужно их».