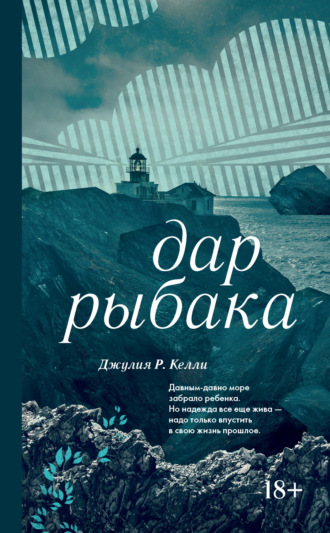
Полная версия
Дар рыбака
Агнес со вздохом опирается о прилавок обеими руками.
– Серьезно? Можем мы о чем-нибудь другом сегодня поговорить?
Повисает хмурая тишина. Попытки завести непринужденную беседу проходят впустую. Скотт подходит к стойке, нарочито громко ставит на прилавок пинту пива и стирает с губ пену.
– Ну так дело в том, что нам до сих пор ничего неизвестно. Вот ведь какая штука, а? Что сейчас, что тогда. Всякий знает, что Джозеф испытывал к Дороти, а ревность подстрекает мужчин к безрассудствам. Может, рыбак он и дельный, но у некоторых все еще остались неотвеченные вопросы.
Кругом раздается одобрительное ворчание, хотя недовольство вспыхивает с двойной силой, стоит Агнес потянуться к колокольчику.
– Пора закругляться, – заявляет она, несмотря на ранний час.
Все как один накидывают куртки и поплотней натягивают шапки, поскольку морось и впрямь сменяется снегом, и снежинки ярко сверкают на фоне черного неба, пока мужчины один за другим скрываются в вечерней пурге.
Оставшись, наконец, в одиночестве, Агнес оседает, упершись руками в стойку. Только не снова, после стольких лет. Может, кому-то и хочется выяснить, что же тогда произошло, но разве она не хлебнула горя сполна?
И мучительней всего была именно горькая правда.
Тогда
ДоротиВстретив Дороти на станции, настоятель подхватывает ее чемодан и несет пару километров до Скерри, вниз по пологому склону, а вдали под солнцем россыпью искр сияет море. В воздухе витает аромат утесника. Когда дорога сворачивает вправо и под горку, впереди проступают очертания деревни. Вот она и приехала в свой первый дом вдали от дома. В голове всплывают образы с безлюдных похорон матери в Эдинбурге, вспоминается исполнительность плакальщиц, промозглая церковь – но с той, прошлой, жизнью покончено.
Дороти делает глубокий вдох. Миновав пасторский дом и целый ряд домов призрения, а следом и саму церковь, построенную чуть поодаль от дороги, они подходят к расположенной по соседству школе, где настоятель выступает одновременно директором и преподавателем. Но сперва настоятель хочет показать Дороти домик, который полагается ей в связи с назначением, – точь-в-точь как она себе воображала: все чисто и опрятно, стены заново покрашены, имеется даже самая необходимая кухонная утварь. Дороти в восторге, но слишком вымоталась после долгой дороги, и от усталости все тело так и ломит. После затянувшихся вежливых прощаний и настойчивых уговоров отужинать в пасторском доме с настоятелем и его новоиспеченной женой, Дженни, настоятель уходит, и Дороти, усевшись за небольшим кухонным столиком, облегченно выдыхает.
И только когда она ложится спать в незнакомой комнате, а в доме воцаряется зяблая тишина, с улицы доносятся звуки морских волн, то и дело набегающих на берег, которого она еще даже не видела. Она воображает пляж под черным небом, звезды, отражающиеся на волнах, и наконец проваливается в глубокий сон.
В первую же субботу по приезде она начинает обустраивать класс, чтобы подготовить все к понедельнику, держа в уме заученный в университете девиз «Порядок и дисциплина, верность призванию учителя, классу и детям» – принципы, привитые ей матерью с самого детства. Дороти расставляет книги по высоте корешков, вытирает доски, выравнивает парты, оглаживает собственное платье и от волнительного предвкушения то и дело встает, осматривает стройные ряды парт, сквозь чистые окна окидывает взглядом деревню, вдыхает запах свежей краски на стенах. Затем раскручивает глобус, проверяет, чтобы колокольчик был натерт до блеска и в любой момент готов созвать детей в первый учебный день, а сама вдыхает свежий, чистый воздух новой жизни, хотя в голове у нее неотступно вертятся слова матери: «Скерри? Где это? Немудрено, что я о нем не слыхала: крохотный городишко! За детьми наверняка придется скорее присматривать, чем обучать, но для тебя это, наверное, и к лучшему», – и тут ее отчаянно тянет наружу.
И вот во время перерыва на обед Дороти наконец удается сделать то, чего ей хотелось с самого приезда. Она все время ощущала запах, видела его издалека, даже слышала из домика, – своего собственного! – возвышавшегося над остальной деревушкой, но еще ни разу не ходила на пляж. А именно на Отмель.
Спускаясь с холма, она подмечает прикованные к ней взгляды; мужчины то и дело приподнимают картузы, а женщины оглядывают ее и затем заговорщицки склоняются к подругам или мужьям. Должно быть, все в округе знают, кто она такая, и это неизбежно разжигает их любопытство; поэтому она изображает на лице выражение отрешенной вежливости, подобающее профессии преподавателя, и продолжает путь как ни в чем не бывало, ощущая пристальные взгляды даже спиной. По правую сторону располагается бакалейная и по совместительству кондитерская лавка Браун: окна в переплетах чисто вымыты и заставлены знакомым товаром – чаем «Липтон», горчицей «Колман», овсянкой «Квакер», – и Дороти внезапно захотелось зайти, взглянуть, что еще у них есть. Может, найдется что-нибудь перекусить на обед. Она воображает, как сидит на Отмели, ест пирог и смотрит на лодки, но тут же отбрасывает эту мимолетную мысль. Обедать на улице? В одиночку? Что за мысли лезут в голову? И она толкает дверь. Раздается звон колокольчика, и она щурится, пока глаза не привыкают к полумраку.
Справа у прилавка вкруг толпятся молодые женщины, и редкие солнечные лучи очерчивают их лица, разом обернувшиеся на нее. Дороти улыбается и кивает, ощущая, как обводят взглядом ее новенькое платье, широкий кружевной воротничок, начищенные ботинки, и замечает, как женщины переглядываются.
– Так вы новоприбывшая учительница? – В голосе женщины сплошь шипы да острые углы, ни намека на доброжелательность.
– Верно, мисс Эйткен. Дороти Эйткен.
Она протягивает руку и делает шаг навстречу.
Кто-то усмехается, потом откашливается, и женщины опять переглядываются. «Так вот оно что, – думает Дороти, – точь-в-точь как говорила мама: избегай лишних сплетен, репутацию надо поддерживать». Улыбка застывает у Дороти на губах, и она красноречиво вскидывает брови.
Женщина за прилавком скороговоркой перечисляет имена всех присутствующих:
– Мисс Белл. Эйлса Белл. Мисс Баркли. Нора Баркли…
Хоть и не сразу, Дороти догадывается, что над ней подтрунивают. А чего еще она ждала? И Дороти по очереди со всеми здоровается, а затем неторопливо обходит магазин, берет что-то с полки, переворачивает почитать состав, тем самым выказывая невозмутимость. В конце концов она берет то, что ей даже не нужно, – какао от «Кэдбери», затем подходит к прилавку и, дождавшись, пока женщины не расступятся, все с той же натянутой улыбкой кладет медяки на деревянную столешницу. Дороти с облегчением чувствует, что вышла победительницей в этом сражении, разученном еще на детской площадке, среди ехидства и косых взглядов, где фокус в том, чтобы держать улыбку, приподняв брови и отбросив чужую предосудительность, будто тебя это нисколько не заботит. Но когда она выходит за порог, из-за полуприкрытой двери вслед ей доносятся слова: «Как же нам повезло! Ее высокоблагородие, собственной персоной» – а затем дружный хохот. Дороти выходит на солнце и, секунду помедлив, бросается прочь.
У подножья холма дорога петляет влево, вдоль скалистого обрыва, и внезапно Дороти оказывается на верху крутой лестницы, ведущей к пляжу, а прямо перед ней во всей красе искрится под лучами солнца море; в воздухе витает солоноватый рыбный запах, вдали виднеются лодки, доносятся крики чаек, кружащих и пикирующих над водой.
Обувь у нее совсем не к месту, и Дороти надеется, что никто не заметит, как она сползает в ней по камням с корзинкой в руке, и, наконец, выходит на пляж. Она смотрит, как бурлит, будто дышит, морская махина, как вздымаются и опадают волны, и не может совладать с охватившим ее странным восторгом. На одной из лодок какой-то мужчина встает во весь рост и, прикрыв глаза от солнца, вскидывает взгляд на нее. Она невольно смотрит в ответ, и оба замирают, разглядывая друг друга с головы до ног. Тут он приподнимает руку, и Дороти внезапно спохватывается. Что бы сказала ей мать? Она опускает глаза и вдруг замечает потертости на кожаных ботинках и испачканный песком намокший подол. Она уходит прочь и, не оглядываясь, торопливо взбирается по ступенькам наверх.
ЦерковьНа следующий день Дороти с нетерпением ждет предстоящую службу. В церкви Святого Петра, покровителя рыбаков, – единственном месте, где она точно знает, кто она такая, и не чувствует себя лишней. На церковном кладбище опрятно и прибрано, что похвально, замечает она, – дело множества рук, а сама церквушка простенькая, с зубчатой башенкой без лишних орнаментов и украшений, не считая арочных окон, сияющих под солнечными лучами. Люди все прибывают, и Дороти пытается угадать, каких детей ей предстоит обучать, воображает, как встретит их на пороге, стройной колонной выстроившихся у классной двери, и каждый займет свое место, со своим учебником, доской и мелком.
Настоятель стоит у входа в церковь и приветствует паству. Завидев Дороти, он вскидывает руку.
– Мисс Эйткен, как удачно! Пойдемте, познакомлю вас с односельчанами.
Сердце у Дороти заходится, но она оглаживает платье у талии, как делает всегда перед ответственным делом, и следует за настоятелем, соорудив на лице вежливую улыбку. Стоит ей поравняться с настоятелем, как он принимается перечислять имена прихожан, сопровождая их краткой сводкой о каждом.
– Это Нора и Эйлса.
А затем, как будто между прочим, добавляет:
– К слову, Нора – одна из наших лучших вязальщиц, а выпечка Эйлсы – что ж, убедитесь сами. – Дороти узнает в них вчерашних насмешниц, и у нее слегка сводит живот. Следом за женщинами в гордом одиночестве идет хозяйка лавки.
– А это миссис Браун.
Дороти отмечает уважительный тон настоятеля и холодный оценивающий взгляд миссис Браун. К своему удивлению Дороти замечает, что одета она весьма странно. Платье свободного покроя, подпоясанное вместо ремня шнурком, к тому же – на ней ведь не мужские сапоги? Но тут настоятель продолжает:
– Миссис Браун знает тут всех и каждого, так что, если вам что-то понадобится, обращайтесь именно к ней. Сам я быстро это усвоил. Ох, а вот и Джейн с Уильямом. Печальная история, как-нибудь в другой раз расскажу.
Женщина явно старше мужчины, в ком, несмотря на рост, угадывается что-то мальчишеское. Они подходят и пожимают ей руку. Женщина, Джейн, стоит со спутником плечом к плечу, и Дороти не может понять – то ли это брат и сестра, то ли муж и жена. Уильям улыбается и щурится на солнце.
– Доброе утро, мисс Эйткен. Приятно видеть новые лица в деревне.
Но Джейн, поджав губы, тотчас его уводит, пробормотав: «Да-да, разумеется».
Жена, получается.
Дороти знакомится с вязальщиками сетей и плотниками, с крупными и мелкими земледельцами, бондарями и рыбаками. Женщины прядут и ткут, разделывают и заготавливают рыбу; одна работает белошвейкой – что Дороти отмечает на будущее, – многие приходят с детьми, цепляющимися за материнские юбки и руки. В именах Дороти вскоре теряется, поскольку многие спешат укрыться от их испытующих взглядов и светской хроники настоятеля в промозглом сумраке церкви.
Все уже рассаживаются по местам, когда наконец входит Дороти и, опустившись на последнюю скамью подле незнакомого старика, с благодарностью за наступившую тишину слушает, как настоятель принимается зачитывать объявления: вязальные вечера, дежурство в церкви, подаяние неимущим. И, уже едва прислушиваясь, Дороти окидывает взглядом сельчан, детишек, шаркающих и ерзающих на месте, большие семьи и семейные пары – всех этих людей, с которыми ей предстоит ужиться, и убеждает себя, что никого нарочно не выискивает, уж точно не того рыбака, который приветственно вскинул руку, прикрывая от солнца глаза, когда на Отмели не было никого, кроме них.
Но его здесь и нет.
Агнес«Джозеф тем и берет, – раздумывает Агнес, ставя воду на плиту и разворачивая мыло, – что он ни на кого не похож». Ни на ее отца, ни на других мальчишек. О, разумеется, она сама не прочь похохотать над их скабрезными шуточками и недвусмысленными намеками, да и позаигрывать с парнями ей по душе, но Агнес понимает, что за этим стоит и к чему все ведет. Только этим утром у мамы под глазом расплылся синяк, щека вся распухла и наполовину перекрыла глаз.
Опрометчивая свадьба и неподходящая пара.
Скоро Джозеф к ним заглянет, он всегда приходит на пятничный ужин, а порой даже приносит отборного краба или лобстера из рыболовецких ловушек. Вода почти нагрелась, малыши как раз в школе, старшие вовсю работают, а Джини пока на рыбном рынке, так что Агнес раздевается и достает тряпичную мочалку с полотенцем. Вопрос в том, как ей показать Джозефу, что она уже подросла и в младшие сестренки ему не годится? И хоть у них пять лет разницы, другие девушки уже к восемнадцати выходят замуж и заводят детей. Агнес вздыхает. Подружка посоветовала принимать лавандовые ванны, поэтому Агнес растирает в таз цветочные бутоны и заливает их водой. Комнату заволакивает землистый запах. Агнес отирает лицо, намывает подмышки и груди; выскребает грязь из-под ногтей и начищает их хозяйственной щеткой. Она подмывается, а под конец опускает таз на пол и ополаскивает ноги. Усердно растеревшись полотенцем, она надевает чулки и накидывает чистое платье, а будничное убирает в корзину с бельем, заготовленным на утреннюю стирку. Она расчесывает волосы, а про себя считает – все та же подружка посоветовала считать до ста взмахов, чтобы расчесаться до блеска. На двадцать третьем взмахе расчески Агнес слышит еле доносящийся со взгорья звонок об окончании школьных занятий.
Она поспешно выносит таз в сад, сливает мутноватую воду в закутке возле свинарника, затем пускается обратно на кухню и принимается резать для ужина лук, будто и вовсе не готовилась к приходу Джозефа.
Полуденное солнце, отразившись от ножа, поблескивает на ее ногтях, и Агнес упоенно наслаждается юностью тела в чистеньком и свежем, бережно залатанном платье. В один прекрасный день она будет готовить ужин для мужа, с малышом на подходе, а может, и младшеньким в юбках – крепеньким мальчуганом, – обзаведется семьей, дружной и крепкой, где бояться будет нечего, и детям не придется прятаться под простынями и рассказывать друг другу сказки или распевать стишки, лишь бы не слышать, как отец швыряет мать об стены на кухне.
И может, думает Агнес, подкидывая на шкворчащий лук обрезки из мясной лавки, не ровен час, и именно сегодня Джозеф наконец-то ее заприметит.
ДоротиСтука в дверь она не слышала, однако же записка тут как тут: самый краешек торчит из-под двери, а на нем отточенным почерком выведено ее имя. Мисс Эйткен.
Дороти поднимает записку, и сердце у нее замирает, стоит ей позволить себе мимолетную глупость и снова вспомнить рыбака.
Мисс Эйткен,
приглашаем Вас в кружок по вязанию для благородных дам в бакалейной лавке «Браун» по четвергам.
Миссис БраунДороти вздыхает.
Все-таки мисс Эйткен, а не Дороти.
От миссис Браун.
Дороти насилу сглатывает. В ушах звучит гулкое эхо ее формального приветствия в лавке и уклончивый отклик женщин; щеки у нее пылают.
Устроившись за кухонным столом, Дороти перечитывает записку. Вдруг она все не так поняла?
Благородные дамы.
Ее высокоблагородие.
Дороти вспоминаются дружные стайки девчонок на детской площадке и собственная оробелая обособленность. Под стать матери, которая к вечеру тоже стояла у школьных ворот поодаль от других родителей; и Дороти шла ей навстречу под ее суровым взглядом, тогда как остальные припускали бегом. Мама беготню не одобряла. Равно как детские игры. А еще громкую болтовню. И щипок за руку служил действенным напоминанием на случай, если Дороти вдруг забывалась.
В детстве она всегда стыдилась того, как легко ее доводили до слез, как остро она нуждалась в проявлениях любви и стремилась к этому всем своим существом. Прошло немало лет, прежде чем она поняла, что мать только того и ждала, легко манипулируя ее чувствами, что давало ей немалую власть.
Происходило это всегда по накатанной. Комнату постепенно наполняла тягостная тишина, так что Дороти насилу дышала и двигалась от беспокойства и все ломала голову, что же она натворила, чем заслужила отчужденное лицо, разочарованный вид, накрепко, словно шнурком, поджатые губы.
В попытках задобрить мать пустячным жестом – заварить ей чай, к примеру, который она выпивала с напыщенно-укоризненным взглядом, – Дороти все слабела и чуть не падала в обморок от нараставшего смятения.
Когда же мать наконец соизволяла простить ее, она раскрывала объятия в знак того, что Дороти отбыла наказание; это же служило для Дороти знаком кинуться к ней в слезах благодарности и раскаяния за проступок, о котором она даже не подозревала. А в награду мать ее обнимала. Дороти кляла себя за то, что шла у нее на поводу, давала ей такую власть над собой.
Но все переменилось в тот день, когда она нарочно сдержала слезы.
В тот день она украла леденец на палочке. Ее всегда манили сладости из бакалейной лавки на углу их улицы в Эдинбурге. По пути в школу она подчас задерживалась возле окна, завороженная мерцанием сладостей в банках, и разглядывала лоснящиеся черно-белые в полоску карамельки, яркие цветастые сосульки, мятные палочки, пестрые леденцы. Одни только названия сладостно таяли во рту. В перерывах ее одноклассницы доставали шелестящие бумажные пакетики, заглядывали друг другу в кульки и уже с конфетой за щекой, по-рыбьему причмокивая губами, обменивались сладостями. Дороти всегда отчаянно хотелось тоже чем-то с ними поделиться или обменяться – даже не ради вкуса и сладости, а чтобы побыть в их кругу, поучаствовать в разговоре, попробовать на спор уместить во рту три конфеты – по одной за обе щеки, так, а третью куда? Но вместо этого она стояла в сторонке и с деланной увлеченностью играла в веревочку, искоса поглядывая на остальных.
И вот в один прекрасный день она пошла в лавку за чаем, и там на прилавке лежала новая партия леденцов. Их еще не пересыпали, хотя банка тоже стояла рядышком на прилавке, пустая – только донышко присыпано сахарной пудрой, и рядом больше никого, по крайней мере у прилавка: ни покупателей, ни лавочника. Она ни разу в жизни ничего такого не делала – Дороти, которая наизусть знала стихи из Библии, добросовестно исполняла служение в церкви и неизменно посещала воскресные проповеди, – но тут она схватила леденец, сунула его в карман пальто и пулей рванула из лавки домой, а там уже, украдкой от матери, спрятала. По ночам она лежала без сна: все беспокоилась за совершенный грех и гадала, последует ли за ним наказание, но эти переживания переплетались с грезами о том, что наконец-то можно будет взять на перемену лакомство.
Во время утренних уроков Дороти то и дело совала руку в карман сарафанчика, ощупывая леденец, уже облепленный ворсинками. И вот минула первая перемена, а Дороти все время простояла во дворе. Леденец же разбухал и оттягивал ей карман.
Следующую перемену она простояла на том же самом месте, вытащив руки из карманов, чтобы не привлекать внимания.
– Дороти, ты не приболела? – хмуро взглянула на нее учительница, и Дороти, замирая от ужаса, помотала головой.
Какие-то девчонки после уроков сбивались в прелестные хохочущие стайки и вместе бежали домой, других у ворот с улыбкой дожидались матери. Ее же мать стояла в отдалении, и Дороти мгновенно догадалась, что она все узнала. У Дороти сперло дыхание. Видимо, лавочник ее заметил и рассказал все матери, а теперь деваться некуда, и даже нет возможности избавиться от леденца. Путь к матери как будто сузился, и Дороти охватило странное чувство, словно она с каждым шагом все съеживается, и под конец, представ перед суровым взглядом матери, она уже уменьшилась до крошечных размеров.
Щипок пришелся по самому больному месту. Ногти у матери были острые, и на месте оцарапанной кожи остались ранки в виде полумесяцев.
Домой они шли молча, и леденец на палочке тяжело постукивал по бедру, а у Дороти от страха подгибались колени. Когда дверь за ними захлопнулась, Дороти чуть не упала в обморок, но мать, не говоря ни слова, ушла в свою комнату.
И все опять пошло по заведенному порядку – тягостная тишина, разочарованный вид. Сама же она, как обычно, высматривала, когда мать наконец-то смягчится, заваривала для нее чай, расспрашивала, как прошел ее день, едва не задыхаясь от желания сознаться и отчаянной жажды заключительного акта прощения, ведь на этот раз она и правда провинилась.
Наконец мать вошла в ее комнату. Встав на пороге, она склонила голову на бок, и на лице ее застыла полуулыбка блаженного долготерпения.
– Ну что ж, отныне мы не будем забывать постель заправлять, верно, Дороти? Ты ведь у нас для этого не слишком благородных кровей?
У Дороти зашумело в ушах, и она встала как вкопанная. Заправить постель. Она невольно потянулась рукой к ущипленному месту. Припоминая одноклассниц, бегущих после уроков к своим матерям, улыбающимся теплой улыбкой, и нелюбовь собственной матери.
И она нарушила заведенный порядок.
– Дороти?
Мать шагнула в комнату и распахнула объятия, но в изгибе ее бровей явно читалось недоумение.
Ответить Дороти сумела не сразу, но выдержала материнский взгляд и собрала всю свою волю в кулак, лишь бы не заплакать, даже слезинки не проронить.
– Да, мама? – отозвалась она и ущипнула руку за больное место, сдерживая слезы.
Она вскинула брови, якобы недоумевая, с чего вдруг мать вообще ее зовет, и, скривив губы в натянутой, холодной улыбке, снова взялась за метлу и, не глядя на мать, принялась подметать как ни в чем не бывало.
Теперь настал черед ее матери съежиться. Она растерянно стояла в комнате, а затем развернулась и предоставила Дороти самой себе.
Тут Дороти, дрожа всем телом, повалилась на кровать.
На следующий день по пути в школу она раскрошила леденец каблуком и с тех пор на переменах только и делала, что стояла сама по себе, сцепив пальцы веревочкой, и даже не смотрела в сторону щебечущих одноклассниц с шуршащими пакетиками и сластями, от которых ей делалось дурно.
Ее высокоблагородие.
И вот, столько лет спустя, сидя у себя на кухне, она взволнованно моргает. Как же глупо с ее стороны было думать, что здесь все обернется иначе, и, уже не перечитывая записки, она ее сминает и выкидывает в стылый камин.
АгнесВ ту пятницу он приносит цветы – дикую герань, болотный вереск и ракитник, – которые она помещает в кувшин и выставляет на стол. Ее мать пытается замазать пудрой синяк, в то время как Агнес прислушивается, не шагает ли по тропинке отец, в надежде, что сегодня обойдется без скандалов.
Она ставит на стол горшок перловой похлебки и склоняется над столом возле Джозефа в надежде, что он заметит запах лаванды.
– Чем это воняет? – спрашивает ее брат, зажав нос, когда она наливает ему в миску похлебки.
Он делает вид, будто его тошнит, и все смеются. У Агнес замирает сердце. Неужто она переборщила с лавандой? Она садится на свое место и склоняется над миской.
– Ну как улов сегодня, Джо?
Только Джини так зовет Джозефа, закрепляя за собой право на близость на правах лучшей подруги его матери, умершей от рака.
– Неплохо, Джини, – непринужденно улыбаясь, отвечает он. – А похлебка вкуснейшая, Агнес. – Он поднимает в ее честь ложку. – Будущему мужу можно только позавидовать.
Еле дотерпев, когда Джозеф шагнет за порог, Агнес подбегает к матери.
– Ты слышала, что он сказал?
Младшие сестры от удивления округляют глаза.
– Что? Что он сказал?
И вторая:
– Я ничего не слышала!
Но Агнес шикает на них и гонит спать.
– А ну-ка умывайтесь и в кровать.
Она знает, что сестры тут же кинутся в сад поиграть и сходить в туалет, до последнего оттягивая время сна, и может, ей удастся выкроить хотя бы пару минут наедине с матушкой.
– Ты же все слышала? Что он сказал?
Агнес с отчаянием заглядывает в мамино лицо.
– Слышала, слышала. Я же говорила, Агнес – Джо и так уже член нашей семьи. Он мне как сын родной, ей-богу. Осталось только записать его в сыновья перед Господом Богом, – улыбается Джини, хотя и устало, и, передавая Агнес вымытую миску, морщится от боли.
Они молча прибираются и наводят порядок, заготавливают стирку на утро, замачивают овсянку – выполняют мелкие дела по дому, что составляют их день.
– Иди скорей укладывай детей, а то отец идет.
Агнес останавливается на полуслове, замечает, как мать, распахнув глаза и затаив дыхание, прислушивается к тяжелой поступи отца. За окном день истекает желтовато-синюшными красками заката. Дети так и не успели умыться, но теперь уже поздно.
– Бегом, в постель. Папа вернулся.
Дети прекращают игры, и Агнес, намочив передник в бадье для дождевой воды, протирает им лица и руки, после чего они гуськом семенят вверх по лестнице.









