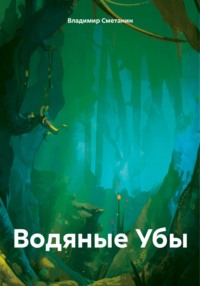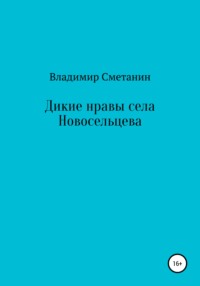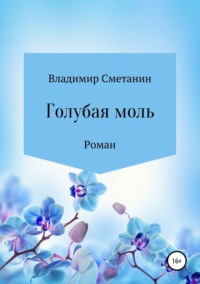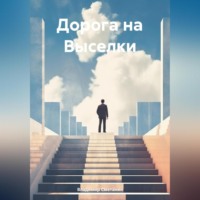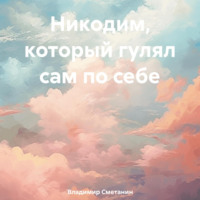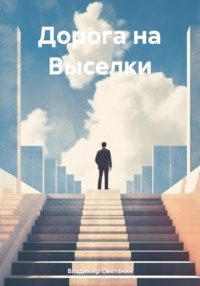Полная версия
Сезон жарков
– Василий! – говорил, обращаясь к внуку, патриарх Канухинского рода дедушка Игнат, – ты живешь чисто потребителем. Вот есть производители, которые чего-то полезное производят, а есть потребители, которые только потребляют и ничего не производят, кроме свинст…
– Ну что ты, дед, говоришь! – укоряла его дочь Наталья, – он же еще ребенок! Вот вырастет – будет производить. Но и употреблять будет, а как же: без употребления человек не живет. Вот есть даже общества потребителей, и еще больше, союз обществ потребителей – знаешь же, потребсоюз. Но, правда, он сгинул, хотя есть же, что потреблять.
– Так вот я и говорю, – не сдавался дед, – развелось потребителей! И Васька туда же.
– Но ведь он же еще мал.
– Ничего себе, дитятя: десять лет! Мы в такие годы картошку в колхозе копали, забыла? Ковырялись чуть не целый день! Хотя лучше бы послали на рыбалку…
– Золотое было времечко! – мечтательно вздыхала дочка. – Накопаем картошки, напечем, колхоз молока привезет – объедение!
– Ну, хлеб-то, сахар, даже соль с собой приносили, – ворчливо замечал дед, – лучше бы на рыбалку пригодилось!
Потому что он неизлечимо страдал этим недугом. Коварное пристрастие не раз подводило его, особенно в школьные годы, потому что лета не хватало. Приходилось иной раз жертвовать уроками. Ну и что? Венька Ковалев, кажется, за десять лет не прогулял ни одного урока, был круглый отличник, а сейчас тоже пенсионер и ни тебе яхты, ни даже задрипанного вертолета, хотя есть еще советский «Запоржец». Да. И вспомнить-то нечего. Тьфу!
Сам дедушка Игнат до последнего не расставался с удочками, выходя спозаранку на реку, и доселе ходил бы на промысел, да уж ноги не те. Не носят, как бывало. Странно, однако же – хобби деда не передалось внуку: к рыбалке Василий был равнодушен, хотя селедку с картошкой любил. Но и только. Зато ни с того, ни с сего, увлекся детскою забавой. Проще говоря, даром тратил время, вырезая фигурки из бересты.
Вот он и явился причиной разговора Виолетты с Куницыным после производственного совещания в ООО «Луч». Дело же заключалось в том, что Сергей задался целью основать в селе музей, где должны быть выставлены работы жердевских умельцев. Виолетта по-родственному решила открыть какие-никакие перспективы для брата, дабы он развивал свои художественные способности. Благодаря ей один уголок сельского Дома культуры украсился работой Василия под названием «Мада летом». Она представляла собой панно из бересты размером метр на полметра и изображала местную реку Маду, текущую среди пологих берегов, в отдалении покрытых гривами леса. На создание этого произведения начинающий мастер декоративно-прикладного творчества потратил полтора месяца. Главная трудность заключалась, конечно, в подборе и обработке бересты, и он погрузился в справочники, печатные и электронные. Первые были представлены в Жердевской библиотеке непозволительно скудно, в интернете же кое-что полезное имелось. Чтобы создать летний пейзаж, требовалось много зеленого цвета, но береста, как известно, в природе лишена такого окраса. Тем занимательней представлялось решение этой задачи. Оказалось, что не обязательно, например, иметь под рукой желтую и белую краски, чтобы собрать на листе основы букет из ромашек. Вполне достаточно было иметь подходящую бересту. Это как из дикого камня построить ровную стену, с той разницей, что стене безразлично соотношение света и цвета камней, тогда как фрагменты картины должны быть не только подогнаны друг к другу, но и являть в сборе вполне читаемую картинку.
– Я слышала, что ты решил открыть у нас музей, – обратилась Валерия к Сергею, – но думала, что это твой секрет. А сегодня вижу, что нет. Так если ты хочешь подбирать, что можно выставить на обозрение, может, посмотришь и поделки Васи Канухина? Он заболел берестой. Неизвестно, что из этого может выйти, но не топить же ими печку? Жалко.
– Конечно, стоит выставить. Да я видел в ДК его берестяное панно. Там, кстати, по соседству и одна моя картина присутствует. А насчет того, что из всего этого выйдет, так это небесам только известно. Но не сидеть же, сложа руки! Тем более, молодым. Говорено же было: «Бороться и искать…» и «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Но у меня только начало, хотя собирать сотворенные вещи уже нужно. А откроется этот очаг культуры, думаю, в мае, когда вся организационная канитель утрясется, и когда не надо будет топить там печь. Так что все бересты будут в сохранности, будь благонадежна.
– И ладно – все это не к спеху. Главное, Василий будет знать, что его труды увидят. И оценят.
Виолетта засмеялась и взмахнула рукой:
– Обрадую его, только осторожно. С оговорками, чтобы слишком не обольщался.
– Ты прямо как Соломон, – ответно засмеялся Куницын. – Только так и надо. Потому что и я особо ни в чем не уверен, кроме того, что музей будет. Приятели отговаривали меня – да, было дело – но не отговорили. Упертый оказался товарищ!
И тут собеседники сдержанно засмеялись оба.
А и действительно, отговаривали Сергея, и еще как! Клоков меж мужиками раскритиковал затею в пух и прах:
– Какой музей? Тут люди на машину копят годами, недоедают, недопивают, почти без закуски… Только накопили – цена подросла, копят дальше, накопили – опять цена… И чего Серега дурака валяет? Делает подрамники какие-то, натягивает тряпку, грунтует-полирует… Красит потом свою картину. Смех! Люди на машину…
– Да что Клоков! Ближайший друг Куницына, Илья Рябов, услышав о его намерениях, схватился за голову:
– Да ты в уме повредился, ли что ли? Кто же станет ходить в музей, да еще в деревне? Тут с хозяйством-то управиться другой раз нет ни времени, ни желания. И вдруг – музей! Это еще реально в столицах, да и то после разнузданной рекламы какого-то художника. Но тогда ужас: билеты за месяц до, по блату, по тройной цене, очередь немыслимая, ажиотаж, родственников из-за границы вызывают! А ведь изделие этого человека томилось здесь годами, а может, десятилетиями, и все равнодушно шествовали мимо. И через неделю будет то же самое. А?
– Ну, это с одной стороны, – уточнил Куницын, – а с другой где-то в отдаленной от нас местности энтузиаст в малом городке устроил выставочную галерею, и народ в ней не переводился, а скоро там появилось еще несколько таких площадок и тоже не пустовали.
– Это что же – там проживали одни сплошные художники? Или бездельники? Так это где-нибудь на Таити, там специальное помещение не нужно: под любой пальмой можно устроить галерею: печку топить не требуется, стало быть, не потребны ни дрова, ни истопник, ни половая рейка. Тоже и гардеробщик. Может быть, ночной сторож. Или охранная сигнализация. У нас нужны. Потому что могут умыкнуть даже подержанный веник, нечаянно оставленный на крыльце. Выйдет не дешевле, с учетом слабых требований сторожей по зарплате. Плюс еще уборщица. Или сам все чистить будешь? У нас только на всем этом можно прогореть в первый же месяц. Так где, говоришь, это место, где эти счастливчики обретаются? Такое, наверное, одно, или есть еще?
– Неизвестно мне, не вдавался. Но что по иным землям озираться? У нас вон в Палехе каждый второй – художник, и такие там мощные мастера!
– Палех, кажется, переживает не лучшие времена, да и Федоскино тоже, не говоря уже о хрустально-фарфоровых делах.
– Однако, я смотрю, ты в курсе живота художественных промыслов!
– Так видишь: производственные темы мало меня увлекают – производства хватает мне в домашнем хозяйстве, особенно летом. Приходится поэтому развлекаться посторонними вещами. Непрофильными. Хотя ничем таким серьезно я заниматься не собираюсь. Пока. Ты – другое дело: все-таки учился в академии, хоть и заочно.
– Учеба у меня получилась недолгой, по независящим от меня.
– Да я знаю. Жаль. А то, чувствую, ты бы развернулся! Был бы академик.
Они засмеялись. Затем посерьезневший Куницын задумчиво потер лоб и проронил:
– Но, с другой стороны, Боттичелли ведь, кажется, не кончал институт Сурикова?
– Скорей всего. Но, наверное, у него все-таки были учителя. Может, и у – Сандро, кажется? – не все гладко начиналось, как знать. А ты, если влез в это, держись, продвигай идею! Я вот тоже взялся за гуж, причем же вообще непривычный. А что делать? Надо же как-то существовать, раз поручили!
Илья и в самом деле затеял небывалое, почти промышленное дело. Долго о нем не распространялся, но, в конце концов, переполненный надеждами и сомнениями, не смог превозмочь желание обременить ими и еще кого-то. И, прежде, чем рассказать о своем плане молодой жене, осторожно поделился им с Сергеем. Речь шла об изготовлении плитки для мощения двора и садовых, а также иных не слишком протяженных дорожек. Производство их он намеревался развернуть на своем приусадебном участке, пожертвовав тремя сотками земли, отводимой ранее под однолетние травы, проще говоря – под овес на корм. Три сотки особой роли не играли, потому что огород занимал площадь в полгектара с лишком. А для выделки композитной садово-огородной плитки триста квадратных метров – замечательный полигон.
– Так ведь такой плитки сейчас на строительных рынках горы? – засомневался Сергей.
– Там в основном для городских площадей. А тут я стану делать чисто деревенский уклад. И дешевый. Сравнительно, конечно. Был недавно в райцентре у знакомого – у него весь двор выложен собственной плиткой. Так, говорит, все соседи одолели просьбой: наделай им такую же! Но он не связывается с этим рукоделием: едет на вахту, там и деньги другие и работа не такая муторная. Так что я пока без конкурентов.
– Ну, пусть все срастется.
– А Борис, другими словами, Мошкин, наш приятель, возвращается обратно в Жердево, – слышал? – спросил Илья. – И будто собирается тоже тут дело какое-то открыть – моя Настя так сказала. У нее такой бзик: сама постоянно что-то хочет открыть, но вовремя тормозит. Петровну, которая Виолетта, соблазняла устроить кафе, дескать, к такой кулинарше народ толпой ломиться будет. Но Виолетта имеет другие планы – после учебы, наверное, осядет в городе. А Боря, наоборот, из города – сюда.
– Ну? Все на круги своя. Да и правильно, наверно. Там, в городе, и своих бездельников девать некуда, а тут еще мы понаехали…
– Ну, Боря-то не бездельник, – слегка обиделся за товарища Илья. – Он кем только не поработал!
– Да это я к слову. В смысле – конкуренция непереносимая. И если папаша не в рангах, пробиться трудно.
– Ну, так это везде и всегда.
***
Василий Канухин пока не строил срочных планов по организации своего прекрасного далека, хотя предварительные наметки имелись. Но уж очень скоро все меняется, что было вчера хорошо – сегодня уже не очень, а завтра вообще непонятно что это за чепуха.
Вася погрел ладонями уши, вновь надел рукавицы и продолжил уборку слежавшегося, задубевшего снега, откалывая увесистые глыбы. Хотя заканчивается март, день выдался по-зимнему морозный. Там и сям из печных труб валил дым, хотя многие дома обогревались электричеством. Но не всегда хватало электротяги. Жители Жердева поэтому самозабвенно сжигали дрова. Хотя минус 20 – не диво, но это зимой, сейчас же, после оттепелей, такой мороз пробирает насквозь, и обогреваться приходится очень интенсивно. Лишь только Василий отбросил последние комки, как с неба обильно посыпались хлопья.
День не задался.
В кармане задребезжал телефон, заставив Василия вздрогнуть. Звонила Виолетта.
– Я переговорила с Сергеем насчет твоих берест, он говорит, что выставить их полезно. Но, конечно, лучшие. Ты как, готов уже показать?
– Да готов, конечно! – взволнованный, поспешно ответил племянник. – Только у меня сейчас их немного. А лучших – вообще…
– Ну, что есть, и ладно. А до открытия еще сделать сможешь. Так что, заглядываем к тебе сейчас, пока у Сергея есть свободная минута?
– Да, конечно, конечно! – горячо воскликнул Василий и, спешно закинув лопату в сарай, ворвался на кухню.
– Караул, Виолетта с Куницыным нагрянут, бересты смотреть! – вскричал он, – есть у нас чай?
– Как ты напугал меня! – отозвалась нервно мать. – Ну, конечно, есть чай, и к чаю. Но зачем же так влетать в дом? Как будто волки… Кот аж со стула свалился!
– Да ему полезно, лежебоке!
– Когда придут-то?
– Да вот сейчас. Уже в дороге, наверное.
Мать поспешно стала готовить для гостей угощение, а юный художник-берестянщик извлекал из кладовки немногочисленные произведения декоративно-прикладного характера и придирчиво рассматривал их. В конце концов, он оставил это занятие и решил продемонстрировать гостям все, что имелось в наличии – все семь работ разного формата, начиная с «открытки» и кончая полотном размером в половину кухонного стола.
Тут подоспели и Куницын с Виолеттой. Немедленно они были усажены за стол, поскольку это Василий считал, что прежде береста, а все остальное – в последнюю очередь, мать же держалась иного мнения. Поэтому первым делом был выпит предложенный ею чай – с оладьями и клубничным вареньем, и лишь затем, после обмена с хозяйкой новостями, гости перешили к просмотру берестяных произведений. Будущий директор музея и одновременно заведующий фондом творений отобрал для начала четыре работы Василия Канухина, сказав, что остальным тоже найдется место, как только очаг культуры переместится из приспособленного помещения в более подходящее.
– Лиха беда – начало, – молвил Куницын, – теперь нам надо доставить экспонаты в хранилище и оформить их приемку, честь по чести.
– Вы уже, наверное, обойдетесь без меня? – спросила Виолетта, – мне надо кое-что сделать.
– Да, спасибо тебе, дальше мы сами.
И энтузиасты изобразительного искусства, взяв по две берестяные картины, укрепленные на оргалите, отправились в музейное фондохранилище, которое представляло собой летнюю кухню Куницыных, до поры освобожденную под экспонаты. На полпути им встретились две женщины средних лет – библиотекарша Наталья Иванова и ее соседка, учительница начальных классов Ольга Конева, которые оживленно о чем-то беседовали. Увидев Сергея и Василия с необычными, чуждыми Жердеву ношами, они остановились.
– О, что это у вас такое? Можно посмотреть? – воскликнула востроглазая Наталья.
– А что ж, конечно, можно, – отозвался за двоих Куницын. – Работы вот Василия, – и он для убедительности коснулся плеча спутника. Тот с готовностью повернул обе свои картины к женщинам. То же сделал и Сергей Куницын.
– Оригинально, – оценила Ольга.
– Да, и все натуральное, – согласилась подруга и, прищурившись, спросила Василия:
– А не подаришь ли одну такую? Для интерьера?
Вася смешался. Он совершенно безвозмездно передал солидную картину в ДК, еще одну – в общество вышивальщиц. А на каждую уходило не меньше недели работы, и он мечтал получить хоть какую-то компенсацию.
Канухин беспомощно взглянул под ноги и покраснел.
– К сожалению, пока это никак невозможно, – пришел ему на выручку директор музея, – потому что до открытия экспозиции все работы должны быть на месте, на старте, так сказать. Сейчас мы с Василием составим документ о приемке картин, все честь по чести, как полагается. А когда открытие состоится – пожалуйста, договаривайтесь, приобретайте. Кстати, оплата может быть наличными, перечислением, или же, как в старину – путем бартерного обмена.
И он, повернувшись к Василию, украдкой подмигнул ему.
Библиотекарша озадаченно почесала бровь: ничего себе, еще и платить, что ли? Но ничего не сказала, как и Ольга, которая, потупившись, ковыряла носком сапога подножную супесь и прикрывала ладонью рот.
– Вот такие дела, Василий, – сказал Куницын когда они отошли, – художника обидеть может каждый. Но держись!
Оформление новых экспонатов не заняло много времени: Сергей просто-напросто выдал автору расписку в том, что музеем принято четыре работы в бересте с названием и размерами каждой. Потрясенный Василий бережно уложил документ в карман, и даже без особого внимания оглядел изделия, уже поступившие для экспонирования – ему почудился отдаленный звук медных труб.
– Особо рассчитывать на всенародную любовь не стоит, – несколько охладил его распаленное воображение старший, уловив восторг молодого Канухина. – Но продолжать свое дело надо. Только так!
– Ну, как вступление в ряды? – поинтересовался дед Игнат, когда Василий вернулся, – я имею в виду художников ряды?
– Все путем, – дедовым же слогом отвечал берестянщик и поспешил во двор, чтобы поскорей разделаться с уроком уборки снега и взяться за бересту. О школьных уроках он как-то даже не помышлял: до них ли тут!
Дед, не удовлетворенный слишком лаконичным сообщением об успехах внука, вышел вслед.
– Так ты теперь будешь ходить и обдирать березы? – уточнил он, обратившись к Васе. – Для них это вообще-то вредно.
– Ну не все же. Их вон сколько! Лесорубы замучились рубить и грузить.
Василий непреклонно продолжал бросать в сторону снег.
– А школу-то, поди, не бросишь?
– Хорошо бы бросить, так тут такой крик поднимется! – младший Канухин в сердцах бросил очередную порцию снега так далеко, что едва не попал им на соседский участок.
Завидев в окно оживление на участке соседей, во двор вышел Степан Степанович.
– Трудитесь? – поздоровавшись, осведомился он.
– Помаленьку, – отвечал старший из Канухиных.
– У нас тоже субботник – к восьмому марта. Но в основном домашняя уборка, вроде не мусорим, не пылим, а стоит взяться за веник – и дня не хватит. Напасть какая-то!
– Судьба такая, как раньше говорили – планида.
– А ведь есть же люди, которые такими делами не занимаются. Я имею в виду – люди нашего возраста. Свое отбарабанили и отдыхают от всей души. Особенно в жарких странах, там и молодым-то работать тяжко. То сиеста, то фиеста. Пожилые да утомленные вообще душевно отдыхают. Кажется, даже и суп себе не варят. Все по барам, да по пабам обретаются.
– Это верно, – согласился дед Игнат, который был на десять лет старше Степана. – Совсем испортился престарелый человек, говоришь: по барам да по бабам? Это все западная буржуазия, тлетворная. А и наши за ними тянутся, своей головы-то будто нет! Ну ладно, старые-то – у них она, может, уже не в порядке. А молодые? Смотрю телекартинки: вот слон африканский поливает себя из ручья хоботом, там вообще море, у берега плещутся молоденькие особы с почти голым задом и титры – мол, девушки отдыхают там-то. Вопрос: интересно, а от чего они отдыхают?
В сердцах он наподдал утепленным сапогом по глыбе снега, оставшейся после Василия, но потерял равновесие и едва не упал.
– А мы вот снег чистим, да паутину по углам, как вроде домработницы какие, – в унисон добавил сосед.
– Одно утешение – что на субботниках любых у нас никогда и никому не платили.
– Но там хоть музыка была, марши, всякие. «Утро красит нежным цветом…».
– Ну да, ну да. Под музыку-то и металлолом легким кажется, и мусор – не таким грязным. И не жалко его – не свой ведь мусор! Хоть и не очень грязный.
– Хорошо, у вас помощник подрастает, а вот, например, одинокие бабушки – они тоже до земли скоблят?
– В зависимости от самочувствия и физподготовки. Но в основном обходятся минимальной чисткой.
– Вот именно это правильный подход – удовлетворенно резюмировал сосед.
За разговором не заметили, как Василий, окончив свою трудовую вахту, поспешил оставить в покое лопату и устремился в дом. Там ждало его более увлекательное и полезное занятие.
Глава 3
Неизвестно в точности, чем занимались труженики ООО «Луч», вернувшись с производственного совещания, а глава организации Пузырев
отправился в районное управления сельского хозяйства насчет субсидии для покупки семян, потому что собственные семена «Луча» – подозревал Никита Иванович – нынче были частью морозобойными. И, стало быть, хороших всходов не могли дать. Для решения таких вопросов есть и современные средства связи, но куда вернее их решать путем очной беседы. Возвратился домой Пузырев уже затемно: день хоть и порядочно удлинился, но еще не поборол ранние сумерки.
Клавдия, извещенная об отлучке супруга, приготовила ужин и, выпив чаю с зефиром, углубилась в смартфон. Оторвал ее от переговоров только приезд Никиты Ивановича.
– Как съездил? – дежурно поинтересовалась она.
– Обещают, – последовал лаконичный ответ, – лишь бы не три года ждать.
– Козлы, – сдержанно констатировала она, – давно бы уже расстарались!
Пузырев сел к столу, где его ждала яичница, поджаренная на сале, и салат из огурцов с помидорами, позаимствованными из закупок для столовой ООО. Для пущего аппетита присутствовала теша. Он достал из холодильника бутылку водки, спросил:
– Ты не желаешь против простуды? – и, получив отрицательный ответ, налил себе объемистую стопочку и тут же выпил. Клавдия же Андреевна, поев салату и запив его чаем с молоком, на этом и завершила трапезу. Поскольку верна оставалась своей установке кушать в меру. Это не всегда получалось, но сегодня выдался разгрузочный день – без лишней траты нервов, без неотложных дел, и можно было обойтись легкими блюдами. В иные же дни, когда что-то не ладилось, раздражало и бесило, Клавдия Андреевна могла есть без всякой меры, не в силах остановиться. Хотя понимала – умница – что наносит себе этим только вред. Никита же Иванович лишен был забот о собственном здоровье, а уж тем более – о фигуре и кушал в свое удовольствие. Надо сказать, что в определенной мере этому способствовало и сопровождение ужинов непременной чаркой, которая суммарно равнялась как раз полулитровой бутылке. Хотя раньше употреблял после окончания трудового дня гораздо меньше. Ну, тогда и хлопот было не столько, и не столько нервности. Но нервность и не обязательна. Никита Иванович вспоминал студенческие годы, когда молодые, вырвавшись из-под нудного домашнего контроля, приобщались, наряду с науками, и к чарочке. Бывало, к старшим курсам некоторые едва могли дождаться пятницы, когда заканчивалась неделя лекций и семинаров, и можно было как следует расслабиться. Те, кто из состоятельных семей, спешили в рестораны, имеющие скромное финансирование от родителей, выбирали место в парке, если стояло лето, зимой же отводили душу в общежитии или на квартире. Пузырев особо пятниц не ждал, выпивал, как и положено, только в праздники. Но жизнь не стоит на месте…
Клава, когда выходила замуж, оставила себе свою исконную фамилию Макова. А то ведь – такая роскошная дама, и на тебе!.. И так она и значилась во всех документах и в речах на совещаниях и заседаниях – Макова. Но в Жердеве почему-то величали ее Пузыревой – наверное, потому, что была она супругой Никиты Ивановича, и оставалась в его тени, поскольку он тут примелькался. Впрочем, подруги Клавы, называя ее Пузыревой, может быть, так потешались меж собой – кто знает!
Будучи по образованию экономистом, она с легкостью вела бухгалтерскую отчетность «Луча», а также и кафе «Тайга» – тем более, что суммы и в том и в другом обращались весьма умеренные. Во всяком случае, на собственные расходы по поддержанию шарма ей хватало. Хватало своего заработка и ее супругу, тем более, что он почти не употреблял коньяков, арманьяков и прочих рейнвейнов, предпочитая старую, любезную душе российского человека водку. При всем том с некоторых пор замечательная чета Пузыревых держалась дружно – на зависть – из последних сил. Все потому, что Никита, много и красиво говоривший на заре своей трудовой деятельности, не справился с реализацией своих, а заодно – и Клавиных мечтаний. Он обещал в прекрасном природном местечке, в окружении гористо-степного ландшафта, но и недалеко от города, возвести роскошный особнячок, разбить сад, и устроить пруд. Причем с живыми карасями.
– Заживем! – говаривал Пузырев, и потирал руки. И Клава также загорелась этой замечательной идеей, представляя себе, как она будет в этом особняке сиять, словно бриллиант в драгоценной оправе. И зачастят почетные гости. В бриллианте она нисколько не сомневалась, до поры сомнения не коснулись и оправы, но потом все изменилось. Особняк построили, но о роскоши при этом пришлось забыть, за скудостью средств; предприятие-гигант, которым должен был руководить Никита, оказался давно и крепко схвачен другими, ушлыми ребятами с деньгами и связями, хоть и не блещущими умом. Не повезло и с соседями, хотя рядом основывались несколько коттеджей. Неведомо почему, они были заброшены, и замечательное общество, которому следовало окружать Макову и несколько завидовать ей, не состоялось. Лишь один небольшой коттедж оказался заселен – там жила престарелая дама, которая уж никак не могла претендовать на роль светской львицы и ценительницы модных современных нарядов. Клавдию посетила мысль: а не для удаления ли от себя престарелых родственников строили эти, незавидные, надо сказать, хоромы? Угораздило же ее оказаться среди них! Кто знал…
И Макова решила поставить крест на Жердеве и, скорее всего – на Пузыреве тоже. Потому что его запал и деловой ресурс, казалось, исчерпаны, и вряд ли ежевечерние возлияния как-то изменят ситуацию к лучшему. Жаль. А годы летят! Знала бы она, что пророчил негодный Клоков, когда Пузырев взвалил на себя заботу об остатках производства бывшего колхоза! А говорил он, что затея эта стопроцентно проигрышная, и если уж колхоз-миллионер не устоял на ногах, где тут корячиться какому-то ООО! Пузырев, может, и упорный мужик, но чересчур самонадеян. Примерно то же стала думать теперь и супруга последнего.