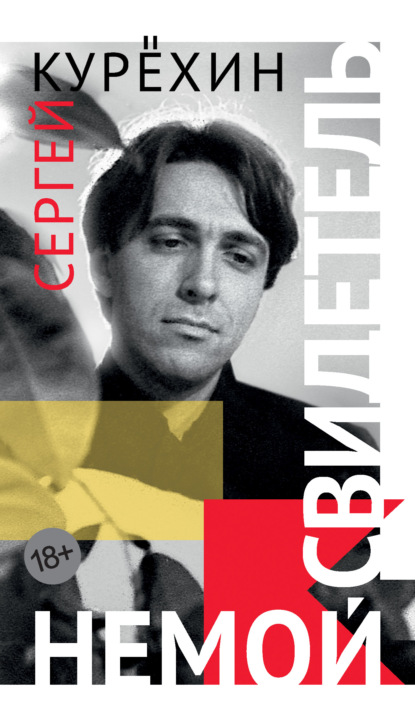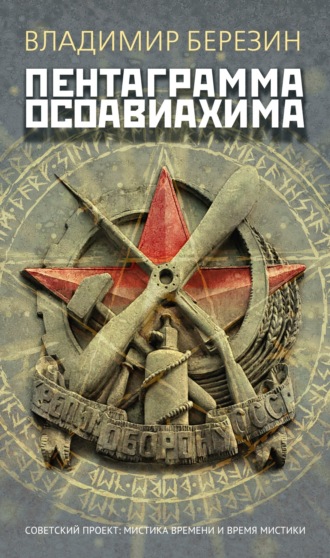
Полная версия
Пентаграмма Осоавиахима
А у его напарника на плече – длинный брезентовый мешок.
Их было двое – Бажанов и приданный ему снайпер. Или, может, Бажанов был придан снайперу – им оказался невысокий парень с плоским монгольским лицом: глядя на это лицо, невозможно было понять, сколько ему лет. Может, тридцать, а может, и все пятьдесят.
Когда они подошли к опушке леса, снайпер стал выбирать позицию.
Дорога тут была видна как на ладони: она изгибалась, делая крутой поворот, и уходила в лес, как раз к дачам министерства.
Снайпер расчехлил винтовку, и Бажанов подивился её необычной форме. На фронте он видел снайперов с простыми трёхлинейками, снабжёнными оптическими прицелами, а тут было что-то специальное.
– Новая разработка? – с уважением спросил Бажанов, но монгол ничего не ответил.
До дороги было метров восемьсот, и Бажанов даже обиделся за новую снайперскую винтовку – на войне он видел, что снайперы тогда били за полтора километра, но не ему тут было решать. Монгол вытащил большой бинокль и дал Бажанову.
– Я работаю по вашей команде – как опознаете машину.
Вечер догорал, как костёр.
Они пропустили грузовик с песком, который, видно, прикупил один из сноровистых дачников – явно в обход строгих порядков. Оттого шофёр гнал на дачи в неурочное время. Потом дорога надолго опустела.
Бажанова тянуло завязать разговор, да только понятно было, что никакого разговора не будет.
Грузовик проехал обратно.
Наконец из-за поворота показалась белая «Волга», её Бажанов узнал бы из тысячи, да много ли тут «Волг» с таким бело-серебристым отливом.
Белые цифры номера, который он выучил наизусть, были чётко видны в сильную оптику. И мужчина за рулём был тоже узнаваем – точь-в-точь как на унылом фото из личного дела.
– Начали, – выдохнул он.
Хлопнул выстрел.
Машину повело по дороге, она вильнула и ушла под откос, где несколько раз перевернулась. Белое тело «Волги» билось на камнях, как пойманная рыба на гальке. Монгол был действительно ювелиром: он пробил колесо, и всё выглядело как заурядная авария.
– Будем проверять?
Монгол ответил всё так же, без выражения:
– Не надо проверять. Всё нормально.
Папа не пришёл к ним в лабораторию, а вызвал их в беседку.
Погода была отвратительной.
Фролов сразу понял, что случилась беда и они услышат то, что не должны услышать уши стен – ни в их комнате, ни в кабинете самого Папы.
Лицо начальника было белым.
Они никогда не видели его таким.
Оказалось, что жена нефтяника взяла его машину и поехала на дачу с любовником – таким же, как её муж, крепким и обветренным человеком. То же, только в профиль, – как говорится, зачем с таким изменять, спрашивается.
Теперь любовники лежали рядом в районном морге, и их обгоревшие головы скалились в облупленный потолок: её белыми, а его – золотыми зубами.
– Что с нами будет? – спросил печальный Гринблат.
– Да что с вами будет? Ничего с вами не будет. Только дело вы загубили. Нефтяник ваш после похорон выезжает в Западную Сибирь. Всего себя отдам работе и всё такое. Дело, понимаете…
– Но расчётное…
– Да плевать там хотели на ваши расчёты и что не вы совершили ошибку. Этих-то кто вспомнит, дело житейское. Тут нужно было изящнее, вас за тонкость ценили.
Папа хотел сказать «нас», но гордость ему не позволила. Фролов понял, что Папа сделал какую-то большую ставку и ставка эта была бита.
– Там, – он сделал жест наверх, – не любят позора. Глупостей смешных там не любят… Ничего с вами не будет, но мы выбрали кредит доверия.
В том, что вы не болтливы, я уверен, я-то вас давно знаю. Да только теперь никто к вам не прислушается.
Видно было, что Папа снова хотел сказать «к нам», но эти слова ему были поперёк горла.
– И что теперь? Разгонят нас?
– Да зачем вас разгонять, играйтесь в свои кубики. Эх, чижика съели!
Папа посмотрел на стену, на которой замерли магнитики, да что там – замерло экономическое развитие страны.
– Я теперь не смогу им… Я уже ничего не могу им сказать про ваши дурацкие идеи. И про нефть.
Фролов слушал всё это, чувствуя, как его понемногу отпускает.
Он смотрел на стену с некоторым облегчением: пусть всё будет как будет.
Страна получит нефть и газ, у нас через двадцать лет будет и нефть, и коммунизм.
Мы его купим. Или получим как-нибудь ещё – не важно, каким способом.
(з/к Васильев и Петров з/к)
И мысленно обращали слова глубокой признательности в адрес тех, чей светлый разум и благородный труд создали, построили, смонтировали и отладили космодром, всю гамму приборов и аппаратов, всю сложную систему агрегатов, что в состоянии оказалась вынести человека за пределы Земли, а потом невредимым доставить его в условленное место.
Творцам «Востока» – слава // Известия. 15.04.1961Ветер дул, солнца не было.
Кругом был холодный степной юг.
Они ползли по ледяной пустыне, как мыши под снегом, – медленно и невидимо человеческому глазу.
Только снега здесь почти не было – ветер отшлифовал пустыню, укоротил ветки дереву карагач и примял саксаул. Недоброе тут место, будто из страшной сказки. Летом – за тридцать градусов жары, а зимой – за тридцать мороза. Растёт здесь повсеместно верблюжья колючка, которая только верблюду и в радость, зато весной тюльпаны кроют землю красным советским знаменем.
Так что, может, и нет этого мира вовсе, нет никакого посёлка Тюра-Там, от которого движутся два зека уже километров сорок. Ничего вовсе нет, а придумал всю эту местность специальный особист за тайной картой. Сидел особист в кругу зелёной лампы и сыпал на карту пепел империи. И там, где падал этот пепел от папирос «Казбек», – там возникали города и заводы, там миллионы зека ударяли лопатами в землю. Там, повторяя струящийся от папиросы дым, вились по степи дороги, а там, куда ставил особист мокрый подстаканник, – возникали моря и озёра.
Но встанет он, повелитель секретной земли, из-за стола, проведёт по гимнастёрке рукой, поправляя ремень, – скрипнет стул, щёлкнет замок несгораемого шкафа.
И не будет ничего: пропадут горы и долины, высохнут моря, скукожится земная поверхность. Ничего не будет: ни звонких восточных названий, ни стёртых и унылых русских, дополненных арабскими цифрами.
Тех имён, которым, как сорной траве, всё равно к чему прицепиться, где прорасти – украсить дачный посёлок или пристать к подземному заводу.
Нет ничего, только карта, только след карандаша и шорох тесёмок картонной папки, в которую спрятали пароходы и самолёты.
Глянет сверху, из вибрирующего брюха шпионской птицы, круглый воровской глаз, захлопает, удивится: под ним пустота да равнодушная плоская природа.
Ищет шпион след от подстаканника, кружки и стрелы, а на деле есть только стальной холодный ветер, колкий снег да звериный след.
И больше нет ничего.
Два живых человека ползли в этом придуманном мире, держась кромки холодного бархана.
Добравшись до первой линии оцепления, они притаились у самых сапог часового в тулупе. Но тот ничего и не заметил, потому что завыл, заревел надрывно в темноте мотор – ударили издалека фары грузовика. За ним махнул фарами по степи, умножая тени, второй, а за тем – третий.
Грузовики шли медленно и у невидимой границы встали. Петров и Васильев неслышными тенями метнулись к последнему. Они летели, как листья на стремительном ветру, – да только притвориться листом нельзя в пустой степи – нет тут листьев, нет дерева на сотни километров вокруг. Притворишься листом – сразу распознает тебя часовой, а вот тенью – ничего, и ветром – сойдёт.
Тенью перевалились Петров и Васильев через борт грузовика, ветошью умялись между фанерных ящиков и продолжили путь.
Обнявшись, как братья, они дышали друг другу в уши, чтобы не пропадало тепло дыхания.
– Терпи, Васильев, терпи – скоро уже. Скоро, скоро. – Дыханье шелестело в ухе, а во втором ухе не пошелестишь, не пошепчешь. Нет у Васильева второго уха – срубило его лопнувшим тросом при погрузке. Стоял бы Васильев на три пальца левее, закопали бы его рядом с шахтой.
– Где Васильев, – спросили бы его сестру Габдальмилю, – где, где Васильев?
И ответила б она чистую правду: в Караганде Васильев, растворился в степи и шахтных отвалах, превратился Васильев в суслика или сайгака, скачет весело по весне или, наоборот, стоит посреди степи топографическим столбиком – свистит на бедность огромной стране.
Но стоял Васильев как надо и ещё шесть лет ходил на развод, хлебал баланду и слушал, как не суслик свистит, а свистит ветер в колючей проволоке. Он был на самом деле крымским татарином и сидел долгий срок за гордость своей неправильной национальностью. Васильевым его записали в детском доме, да только имя Мустафа так и не превратилось для него в Михаила. Перед тем как они спрыгнули с товарняка на пустынном зааральском перегоне, он долго молился у вагонной стены, стоя на коленях. Он молился о своём народе и всех людях, что сидели с ним в разные годы. Васильев думал, что Петров его не слышит, но Петров не спал – он слышал всё. Петров сидел половину своей пятидесятилетней жизни – с перерывом на четыре военных года. Он мог услышать, как крыса ворует чью-то пайку на другом конце барака.
Но русский понимал татарина и сам бы молился, да не было у него веры.
Четыре года собирался Васильев, собирался душой и телом – прыгнуть в степь, что цветёт по весне, и услышать свист суслика перед смертью, да не прыгнул сам.
Потому что встретил Петрова, что был сух и плешив, и глаза их сошлись вместе, припаялся один взгляд к другому – потому что всё сможет стукач, да не сможет глаза поменять. Глаз стукача жирный и скользкий, глаз блатаря пустой и страшный, глаз мужика круглый и налит ужасом. Только у Петрова глаз весёлый – потому что ничего не боится Петров, думает, что ему помирать скоро – статья у Петрова такая, что по ней сидеть Петрову в чёрной угольной дыре ещё десять лет, которых он не проживёт. Сдох усатый, сгорел в топке лысый со своим пенсне, подевались куда-то бородатый и очкастый на портретах в КВЧ, а Петрову трижды довесили срок – и не приедет к нему специальный партийный человек, не выдадут ему пиджак и справку о реабилитации. Потому что бежал он с зоны уже дважды, потому что Петров и так-то жив по случайности – случайно его не выдали недодавленные танками зеки-бунтовщики. Оттого весело Петрову и бьётся у него в глазах сумасшедшинка, помноженная на рассказы соседа по нарам с вечной, как Агасфер, фамилией Рабинович.
Сразу поверил Петров Рабиновичу, поверил и Васильев Петрову. Помирать – так с музыкой, помирать – так в центре холодного ветра, в том месте, где бьётся адский огонь посреди степи.
Верит Васильев Петрову, а Петров Васильеву тоже верит свято, как может верить русский человек татарину. Потому что Петров – солдат и вор, а Васильев – крымский татарин.
Лежат они, обнявшись, несёт их машина – и не видит их никто: ни раззява часовой, ни шпионский глаз в самолёте – нет самолётов над степью, а последний догорел весной над Уралом.
Нечего сюда чужим глазам соваться: здесь из земли растёт огромная морковка, торчит из земли острым носом – смотрит в землю ботвой.
Они ползли, спрыгнув с кузова, целую вечность, но в тот момент, когда Васильев уже начал засыпать от изнеможения, они уткнулись наконец в первую полосу колючей проволоки.
Петров полз впереди и начал прокусывать самодельными кусачками дыру в заграждении.
– В сторону не ходи, – прохрипел он, не оборачиваясь. – Тут наверняка мины.
Васильев не ответил – его рот был забит холодным ветром.
Они миновали и эту полосу, а потом ещё несколько, пока не выбрались на пространство перед гигантским котлованом. Местность казалась пустынной, только указательный палец прожектора обмахивал степь – а сколько служивого люда сидит по укромным местам, то известно только главному командиру.
Но вот прямо перед ними возникла огромная свеча ракеты, которую только что привёз к старту паровоз.
Два зека отдыхали – в последний раз перед броском. Ватники, хоть и были покрашены белой масляной краской, намокли, но оба беглеца не чувствовали их тяжести.
– Она, – удовлетворённо отметил Васильев. – «Семёрка». Это её Рабинович конструировал ещё в пятьдесят четвёртом. Семь, кстати, счастливое число.
– Точно всё решил, а? – крикнул ему в ухо Петров.
– А у нас выбора нет, как мы колючку перелезли. Да и вообще, выбора у человека нет, всё на небе решено. – Васильев притянул колени к груди, чтобы ветер не так сильно холодил тело.
Выбор был сделан давно, когда Рабинович заставлял их учить наизусть карту местности и конструкцию ракеты.
Нарушители проползли через двойное оцепление и начали карабкаться по откосу стартового стола к самой ракете.
Прямо перед ними стоял часовой, и Петров вытащил из-за пазухи заточку.
– Только не убивай, – выдохнул Васильев. – Не надо, совсем нехорошо будет, да.
– Это уж как выйдет, – угрюмо отвечал Петров. – У них своя служба, у нас – своя. Если б я так в охранении стоял под Курском, ты бы тут один валандался. Или на фольварке каком-нибудь мёрзлую картошку воровал у немецких хозяев – вот что я тебе скажу.
Но часовой переступил через кабель, сделал несколько шагов в сторону, и вот снова двумя тенями Петров и Васильев метнулись к лестнице на небо. Рядом с ними из ракеты вырывались струи непонятных газов, пахло химией и электричеством.
Фермы обледенели, они свистели и выли, да и по железной лестнице карабкаться было трудно. Наконец Петров и Васильев достигли верхней площадки.
Петров потрогал белый бок ракеты и дверцу в этой гладкой поверхности. Потом достал заточку и, поковырявшись в замке, отвалил люк – там, внутри, был ещё один, только круглый.
В последний раз оглянувшись на огни в степи, товарищи закрыли за собой оба люка. Клацнуло, ухнуло, без скрипа провернулся барашек, отгородив их и от свиста, и от ветра. Петров достал кресало и запалил припасённый клок газеты.
– Тут человек! Спит!
Держа наготове заточку, Петров приблизился к телу, одетому в красный комбинезон. Поперёк лица космонавта он увидел надпись: «Макет».
– Что это? – открыл рот Васильев.
– Не робей, парень. Это чучело.
– Что за чучел, из кого? Зачем? – Васильев разглядывал человека, у которого вместо рта и носа – чёрные буквы.
Они осматривались, чувствуя, как напряжение отпускает, как становится холодно.
Вдруг звук из другого мира дошёл до них.
– Собаки, собаки, идут к нам, – забормотал Васильев.
– Ты что, какие на этой вышке собаки? – Петров посветил газетой, но и вправду увидел собаку. Внутри странной глухой клетки сверкал собачий глаз.
– Ну вот, ёрш твою двадцать – и здесь под конвоем! – Петров развеселился. – А ты знаешь, как эти придурки собаку назвали, а? Пчёлка! Смотри, тут, над второй, ещё написано: «Мушка».
Они начали хохотать. Петров – густо и хрипло, а Васильев – тонко и визгливо. Это была истерика – они хлопали друг друга по бокам, бились головами и спинами о стены, хохот множился, – собаки скулили от испуга, и вот Васильев, размахивая руками, случайно задел какой-то рычаг.
Внутренность шара залил мертвенный свет.
– Ну вот и оп-паньки. Давай устраиваться. – И Васильев стал потрошить человечье чучело. Манекен оказался набит какой-то трухой, бумагой и серебристыми детальками с проводами. Наконец Васильев успокоился, надел трофейный комбинезон. Петров неодобрительно посмотрел на него и ничего не сказал. Сам он сел в кресло вместо манекена и попробовал подёргать ручку управления.
– Ничего, я самоходку водил. Самоходку! Так и тут справлюсь. Только не люблю я, когда люки задраены: люки задраены – спасенья не жди. У нас вот под Бреслау в соседнюю машину фаустпатрон попал – снаружи дырочка, палец не пролезет, а внутри тишина. Только слышно, как умформер рации жужжит. Я с тех пор с задраенными люками никогда не ходил. А это что? Что это здесь на табличке: «тангаж»? Вот здесь – «крен», понимаю. «Рысканье» – тоже понимаю. А «тангаж»?
– «Тангаж» – это так. – Васильев сделал неопределённое движение рукой.
Внезапно мигнули лампы на приборной доске, харкнул на потолке динамик, застучало что-то внизу под ними. Заполнил уши тонкий свист, который потом перешёл в рёв.
Внутренность корабля вибрировала, собаки завыли, а Васильев свалился за клетки. Снова хрюкнул динамик, забулькала непонятными словами чья-то речь.
– Телеметрия, – захрипел голос сверху. – Что за дела? Что это нам видно?
– Что видно?
– Почему у вас в объективе тряпки?
Петров и Васильев слушали голоса, несущиеся с потолка.
– А знаешь, братан, – сказал Петров, – это ведь ты им кинокамеру ватником закрыл, вот они и надрываются.
Шум между тем усиливался, и вдруг страшная тяжесть навалилась на них.
Хуже всех пришлось Васильеву. Петров лежал, удобно устроившись в кресле, собаки скулили в своих алюминиевых норах, только Васильев орал в неудобной позе у иллюминатора.
Он замер – что-то отвалилось от их корабля и ушло вниз, – но тут же вспомнил, что и об этом тоже, как и о многом другом, их предупреждал Рабинович.
Ощущение тяжести стало понемногу уходить. Васильев почувствовал, как его тащит по борту, и зацепился ватником за какой-то крюк. Петров повернул к нему лицо, залитое кровью. Тугие красные шарики вылетали у него из носа и застывали в воздухе.
– Вот ведь Рабинович рассказывал, но я не думал, что это так странно, – Васильев завис над пристёгнутым Петровым, – Рабинович всё знал… Жалко, мы его не взяли.
– У Рабиновича дети, да и куда тут Рабиновича девать. Не пролезет сюда Рабинович. Но ведь дело, парень, в другом: никто, кроме Рабиновича, про нас теперь не расскажет. Только он людям и донесёт – вот в чём фенька. И то, что первыми были мы, а не эти – в погонах. Это наш мир, мы его строили, мы его от германского фашизма отстояли и снова строили. Это мы должны были лететь, а не они. Они потом полетят, а нам ждать нельзя. У нас времени нет, у нас только срока.
В этом, Васильев, фенька и есть.
Земля в иллюминаторе выгнулась как миска, и Петров с Васильевым принялись разглядывать континенты. Васильев вытащил Пчёлку из клетки и начал чесать её за ухом.
– Вот и кругосветку сделали, – сообразил Васильев. – Где садиться-то будем? К нам-то нельзя, может, к кому ещё?
Об этом они как-то не думали. Дело было сделано, невероятное дело, к которому они четыре года шли, как на богомолье, а что делать дальше – никто не знал.
Бывшие зеки задумались.
– Нет, у немцев я живой не сяду. Да и у англичан тоже. Это всё равно что родину продать. Получится, что нас правильно сажали, и тогда всё напрасно. Значит, они правы во всем, а мы пыль лагерная, вши-недокормки. И в Америке не сядем: они наш аппарат раскурочат себе на пользу, а мы, значит, как ссученные, будем с этими собаками в заокеанском цирке подъедаться?
– А куда лететь-то? – Васильев выпустил собаку из рук, и она поплыла в воздухе, смешно дёргая лапами. – Планет много, не то семь, не то девять… Может, на Марс?
Петров задумался:
– Нет. На Марс не пойдём, я слышал, что там каналов много.
– Ну и что, что много? – удивился Васильев.
– Мне Каналстроя и его каналов в жизни хватило. Мне хватило и Имени Москвы, и Главного Туркменского. Я к Марсу оттого большого доверия не испытываю. Мы к Венере пойдём. – И Петров подмигнул. – Только держись.
И он, пристегнувшись к креслу, налёг на штурвал.
Корабль чуть принял вправо и накренился.
Васильев приник к иллюминатору, тыча пальцем туда, где неслись мимо них необжитые вольные звёзды.
(рассказ непогашенной луны)
(восход-аполлон)
Сия же то переменяющая часто свой вид, то столько же скрывающаяся от нас Луна, сия ночная сообщница нашей Земли есть круг, составленный так же из грубой материи.
Владимир Золотницкий. Рассуждение о бессмертии человеческой души… (1768)Она уже давно ездила этим маршрутом – сначала на автобусе до вокзала, а потом электричкой до Подлипок. За несколькими заборами, окружённая скучающими в карауле солдатами, которые охраняли периметр, она сидела день за днём, грея пальцы кружкой с крепким чаем. Но каждый день, когда истекали положенные восемь часов, она аккуратно мыла чашку ледяной водой в туалете, запирала и опечатывала комнату.
И точно так же – одиноко, последней из всех ехала домой.
Жизнь давно поменяла смысл.
На двери ещё виднелись следы от накладных букв – они исчезли давно, но надпись всё же читалась: «Восход-Аполлон».
Совместная лунная программа была свёрнута, перспективных сотрудников разобрали более удачливые коллеги.
Комната была пуста – вынесли даже лишние столы. В углу, как скрученное знамя, торчала настоящая ракета.
Розалия Самуиловна равнодушно скользнула по ней взглядом, но вдруг вспомнила, что ракета стоит тут ровно десять лет, потому что ровно десять лет назад Розалия стала заведовать сектором – единственная женщина среди десятков начальников. «На десятилетие мне подарили настоящую ракету, а двадцатилетия у меня точно уже не будет», – подумала она. Ракета была действительно настоящая, ещё ГИРДовская, собранная задолго до войны, да только так и не взлетевшая.
Сейчас она стояла в углу, и, глядя на неё, хозяйка кабинета тщетно пыталась вспомнить, кто её собирал. Кажется, Каплевич. Или не он? Каплевича расстреляли в тридцать восьмом, и его уже не спросишь. Да, он, кажется.
Подарок довольно странный, учитывая, что за территорию его не вынесешь.
Розалия Самуиловна пережила всех и, что страшнее, пережила сыновей. Один сгорел в истребителе где-то над Кубанью, а другой погиб вместе с первым космонавтом, врезавшись на учебном самолёте в лес под Киржачом. Кого другого это бы сломало, но Розалия Самуиловна была сделана из особого теста. В её сухом старом теле горело пламя великой идеи и одновременно великой тайны. Оттого смерть детей осталась для неё досадным эпизодом, чем-то вроде проигранной шахматной партии.
Смертей она видела достаточно: лет сорок назад она убивала сама, и за ночь ствол наградного нагана раскалялся настолько, что приходилось просить у конвойных их оружие. Но всё это осталось в прошлом.
Жизнь текла прочь, как слитое после отмены старта топливо. Но это всё глупости, глупости, повторяла она про себя – больше всего ей досаждали варикозное расширение вен, ну и, как водится, американцы.
В углу кабинета бормотало радио – передавали новости, – и в какой-то момент стали говорить о главном: американцы готовились стартовать на Луну. Розалия Самуиловна поймала себя на том, что ей жалко эту американскую троицу хороших, славных, наверное, парней. Одна среди немногих людей на Земле, она понимала, что они никуда не полетят, а, скорее всего, погибнут на старте.
В остальном сегодня всё шло как обычно: она прошла по коридору, зажурчала водой в туалете и вернулась к двери, отряхивая мокрые руки.
Мимо неё по коридору, раскачиваясь на деревянных протезах, шагал техник Фадеев. Фадеев тоже был немолод, но никаких чинов и званий не имел, а имел звание бога экспериментальных моделей.
Розалию Самуиловну он укорял за дурной характер, ведь если бы не характер, то Розалия Самуиловна, поди, заведовала бы не сектором, а институтом и не каталась бы в электричках, а ездила в персональной машине Горьковского автозавода.
Технику Фадееву было хорошо: он уезжал домой на «москвиче» с ручным управлением.
Жёлтому «москвичу» многие завидовали, несмотря на то что Фадеев получил его только потому, что у него не было ног. В сорок втором подорвал себя вместе со своей «катюшей». Взрыв подбросил Фадеева вверх, и он целую ночь, умирая, провисел на макушке огромной сосны, пока немцы бродили внизу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Не перчи, Петро, дикого кабана перцем, ибо переперчишь, Петро, дикого кабана перцем (польск.).