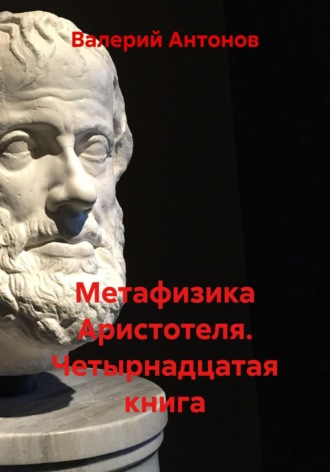
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четырнадцатая книга
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова указывает, что этот аргумент Аристотеля является уничтожающим для платоно-пифагорейской программы. Их учение сфокусировано на объяснении количественной множественности (чисел, а через них – геометрических объектов и тел). Но мир состоит не только из сущностей, имеющих величину и число. Существует множество качеств (цветов, вкусов), отношений ("двойное", "половинное") и т.д. Теория, выводящая все из "Единого" и "Неравного" (т.е. из начал числа), принципиально не может объяснить многообразие в других категориях. Это доказывает ее неполноту и неадекватность.
Работа: "Аристотель и платонизм: критика учения об идеальных числах" // Философский журнал. 2010. № 2. С. 18-20.
Суть комментария: Аргумент от полноты объяснения: хорошая теория должна объяснять все relevant phenomena (соответствующие феномены), а не только удобную их часть.
Jonathan Barnes (Зарубежный специалист): Барнс видит здесь проявление аристотелевского "категориального реализма". Для Аристотеля категории – это не просто классификация предикатов, а фундаментальные способы бытия. Поэтому не может быть единого принципа для всего, что существует, ибо существование в разных категориях – разное. Принципы числа не могут быть принципами качества. Это делает бессмысленным поиск единых первоначал для всего сущего как такового.
Работа: "Aristotle: A Very Short Introduction". Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 70-72.
Суть комментария: Критика основана на тезисе о несводимости категорий друг к другу. Онтология плюралистична по своей структуре.
6. Неверный выбор противоположности для Единого и Сущего.
Текст Аристотеля (Met. 1089b 5 – 1089b 15):
"Далее, каким образом можно принять, что сущее и единое суть сущности? Ведь если они не будут [отдельными] родами, то и все остальное не будет [к ним относиться], а если они будут родами, то все виды будут сущностями… Но ведь ясно, что единое сказывается так же, как и сущее… Поэтому противоположностью единого будет не многое, а неравное, и противоположностью сущего – не-сущее."
Комментарии:
А.В. Ахутин (СССР/Россия): Ахутин обращает внимание на тонкость аристотелевского анализа. Платоники ищут противоположность Единому, чтобы получить принцип множественности, и выбирают "многое". Но, по Аристотелю, это ошибка. "Многое" – это не противоположность "единому", а его коррелят (как "половинное" – коррелят "двойного"). Подлинной противоположностью "единому" (в смысле "равного" или "тождественного") является "неравное" или "иное". А противоположностью "сущему" является "не-сущее". Но, как было показано ранее, и "неравное", и "не-сущее" – это не сущности, а отношения или лишенности. Следовательно, они не могут быть началами.
Работа: "Понятие природы в античности и в новое время". М.: Наука, 1988. С. 150-152.
Суть комментария: Аристотель уточняет саму логику противопоставления, показывая, что платоники выбрали не ту "противоположность", и даже выбрав правильную (неравное), они не смогли бы ею воспользоваться из-за ее онтологической ущербности.
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн развивает эту мысль, отмечая, что Аристотель проводит различие между contrary (противоположностью) и relative (относительным). "Единое" и "многое" – не contraries, а relatives. Они определяются друг через друга. Поэтому нельзя одно из них сделать независимым первоначалом, противостоящим другому. Они – две стороны одной медали, и эта "медаль" – определенное количество.
Работа: "Logic, Science and Dialectic". London: Duckworth, 1986. P. 205-207.
Суть комментария: Аргумент основан на различении типов оппозиции. Платоники трактуют относительные термины как контрарные, что является категориальной ошибкой.
7. Смешение категорий: подмена вопроса о множественности сущего вопросом о множественности количества.
Текст Аристотеля (Met. 1090a 2 – 1090a 15):
"Главная же причина [заблуждения] состоит в том, что они поставили вопрос о множественности в области quantity [количества], тогда как [на самом деле вопрос должен был стоять] о множественности substance [сущности]. Поэтому они и говорят о первом едином и о первом не-сущем, словно [вопрос идет] о возникновении [чего-то] единого и по числу."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко считает этот кульминацией критики. Весь платоно-пифагорейский проект, по Аристотелю, основан на фундаментальной категориальной ошибке – подмене сущности количеством. Они пытаются объяснить, почему сущностей много, объясняя, почему чисел много. Но число – это акциденция, свойство сущности, а не она сама. Объяснив происхождение числа, они не объяснили происхождения множественности самих носителей числа – людей, животных, растений. Это все равно что объяснять природу стола, объясняя, почему он коричневый.
Работа: "Эволюция понятия науки". М.: Наука, 1980. С. 310-315.
Суть комментария: Аристотель обвиняет предшественников в "редукционизме" – сведении высшей категории (сущности) к низшей (количеству). Их онтология оказывается "математизированной" и поэтому неадекватной.
Sir Anthony Kenny (Зарубежный специалист): Кенни видит здесь проявление аристотелевского анти-редукционизма. Для Аристотеля разные науки имеют разные принципы и методы, потому что они изучают разные аспекты бытия, принадлежащие к разным категориям. Физика изучает сущности, способные к движению, математика – количественные аспекты этих сущностей, абстрагированные от материи. Платоники же пытаются сделать математику онтологией, то есть свести науку о сущности к науке о количестве. Это, по Аристотелю, недопустимо.
Работа: "A New History of Western Philosophy". Vol. 1. Oxford: Oxford Press, 2004. P. 185-187.
Суть комментария: Критика основана на принципе автономии различных областей знания и несводимости их предметов друг к другу.
8. Вопрос о необходимости существования чисел.
Текст Аристотеля (Met. 1090a 15 – 1090a 30):
"Тот, кто признает идеи, с необходимостью приходит к тому, что и числа существуют… Но тот, кто не признает [идей], зачем он будет признавать [существование] числа? Ведь если число существует как нечто присущее чувственным вещам, то оно не будет существовать отдельно… А если оно существует отдельно, то каков же его способ бытия и какая от него польза для чувственных вещей?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай интерпретирует этот заключительный вопрос как риторический. Аристотель ставит противников в безвыходное положение. Если они последовательные платоники, то они должны признать идеальные числа, но тогда на них обрушиваются все те критические аргументы, которые были изложены в книгах XIII и XIV. Если же они, видя трудности теории идей, отказываются от них и говорят только о "математическом числе" (существующем отдельно от вещей, но не как трансцендентная идея), то тогда они не могут объяснить, зачем такое число нужно. Оно не является причиной вещей (как идеи) и не является их свойством (так как существует отдельно). Его онтологический статус совершенно непонятен и излишен.
Работа: "Критика Аристотелем платоновского учения о принципах" // ΣΧΟΛΗ, 2008. 2(2). С. 285-287.
Суть комментария: Аристотель использует стратегию "вилки": любая из возможных интерпретаций существования числа ведет к непреодолимым трудностям.
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн рассматривает этот пассаж как часть аристотелевской программы "спасения явлений" без излишних сущностей. Аристотель показывает, что все, что математики делают с числами, можно успешно проделать, рассматривая свойства и отношения самих чувственных вещей. Гипотеза о существовании отдельно существующих чисел является избыточной (redundant). Она ничего не объясняет и ни для чего не нужна. Это применение "бритвы Оккама" за две тысячи лет до Оккама.
Работа: "The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics". 2012. P. 45-47.
Суть комментария: Аргумент от избыточности: не умножай сущности сверх необходимости. Платониковские числа – как раз такие ненужные, умножаемые без необходимости сущности.
Статьи, посвященные исследованию главы 2 книги XIV "Метафизики":
Stephen Menn. "Aristotle’s Criticism of Plato’s First Principle" (Chapter 6: "The Critique of the Material Principle"). // In his book: "The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics". 2012. (Детальный разбор аргументов против "великого и малого" как материи).
Vladimir de Luce. "Aristotle's Critique of the Platonic Doctrine of the One and the Indefinite Dyad" // Journal of Neoplatonic Studies, Vol. 3, 1994, pp. 1-28. (Сосредоточен на анализе главы 2 и ее связи с общеакадемическими доктринами).
В.В. Петров. "Апории единого и многого в XIV книге «Метафизики» Аристотеля" // Философия. Язык. Культура. Вып. 4. СПб.: Алетейя, 2013. С. 12–24. (Анализирует логическую структуру аргументов Аристотеля в данной главе).
Cynthia Freeland. "The Number of Aristotle’s Metaphysics? (On Metaphysics XIV, 2)" // Ancient Philosophy, Vol. 7, 1987, pp. 105-115. (Исследует конкретно вопрос о необходимости числа, поднятый в заключительном пункте).
Эта глава демонстрирует мощь аристотелевской критики, которая действует на нескольких уровнях: онтологическом (простота вечного), категориальном (смешение сущности и количества), логическом (анализ противоположностей) и методологическом (принцип избыточности).
Глава 3. Критика теорий об отдельном существовании чисел: идеальных, математических и пифагорейских.
Глава 3 представляет собой кульминацию критики Аристотелем теорий числа, где он систематически разбирает три основные школы: платоников, пифагорейцев и сторонников "математического" числа, показывая внутренние противоречия и онтологическую несостоятельность каждой из них.
1. Критика платоников: идеальные числа как отдельные сущности.
Текст Аристотеля (Met. 1090a 30 – 1090b 5):
"Те, кто полагает, что идеи существуют и что они суть числа, пытаясь таким образом указать причины для существующего, с одной стороны, отделяют их [от вещей], а с другой – вводят для них начала – относительное и неравное… Но каким образом можно принять, что существуют такие числа? Из каких начал? Число для них либо состоит из абстрактных единиц, что невозможно, ибо единицы должны быть различны, либо оно есть определенное множество, но тогда оно неотделимо от чувственных вещей."
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР/Россия): Лосев подчеркивает, что Аристотель атакует самую суть платонизма – трансцендентность идей. Проблема, по Лосеву, в том, что Аристотель требует от платоников объяснения механизма отдельного существования, в то время как для Платона это данность умозрительного созерцания. Лосев признает силу логического аргумента Аристотеля о единицах: если идеальное число 2 состоит из двух единиц, то эти единицы должны быть тождественны (тогда число неотличимо от суммы) или различны (тогда нужно объяснить принцип их различия, что ведет к дурной бесконечности).
Работа: "История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика". М.: Искусство, 1975. С. 90-94.
Суть комментария: Аристотель применяет к трансцендентному миру критерии чувственного опыта и логической последовательности, которые для платоника неприменимы. Однако его критика выявляет внутренние логические трудности самой теории идей-чисел.
Harold Cherniss (Зарубежный специалист): Чёрнисс детально анализирует этот аргумент. Он соглашается, что Аристотель точно указывает на дилемму: либо единицы в числе тождественны (и тогда число есть просто aggregate (совокупность), а не особая сущность), либо они различны (и тогда требуется принцип их различения, что делает число сложным, а не первичным). Поскольку платоники не могут удовлетворительно разрешить эту дилемму, их теория повисает в воздухе.
Работа: "Aristotle's Criticism of Plato and the Academy". Vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1944. P. 512-518.
Суть комментария: Аргумент о природе единицы в идеальном числе является одним из самых сильных логических возражений Аристотеля, ставящих под сомнение саму возможность существования идеальных чисел как особых сущностей.
2. Критика пифагорейцев: вещи состоят из чисел
Текст Аристотеля (Met. 1090b 5 – 1090b 20):
"Пифагорейцы же, видя, что многие свойства чисел присущи чувственным телам, предположили, что вещи суть числа, – не отдельные [числа], но [состоящие] из чисел. Но почему? Потому что свойства чисел присутствуют в гармонии, в небесах и во многом другом. Они же пытаются построить из чисел физические тела, обладающие тяжестью и легкостью, тогда как у самих монад [единиц] нет ни тяжести, ни легкости."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко видит здесь критику наивного пифагорейского редукционизма. Пифагорейцы совершают категориальную ошибку, отождествляя математическую структуру (порядок, пропорцию, форму) с материальной причиной. Они пытаются сконструировать физическое тело из абстрактных единиц, что абсурдно, так как у числа нет физических свойств. Их заслуга – в открытии роли числа в познании мира, но их ошибка – в онтологизации числа, в попытке вывести из него все качественное многообразие.
Работа: "Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ". М.: Наука, 1980. С. 105-110.
Суть комментария: Аристотель проводит четкую границу между формой (которая может быть выражена математически) и материей (которая обладает физическими свойствами). Пифагорейцы эту границу стирают.
Sir Geoffrey Lloyd (Зарубежный специалист): Ллойд, специалист по древнегреческой науке, интерпретирует этот пассаж как протест против буквального понимания метафоры. Пифагорейцы, очарованные открытием математических закономерностей в природе (астрономия, музыка), начали понимать фразу "вещи суть числа" не как указание на изоморфизм структур, а как утверждение о физическом составе. Аристотель же настаивает на том, что числа описывают свойства вещей, а не являются их строительным материалом.
Работа: "Aristotle: The Growth and Structure of His Thought". Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 150-152.
Суть комментария: Аристотель отделяет научное (математическое) моделирование от онтологического конструирования.
3. Критика сторонников математического числа: отделенность от чувственного мира
Текст Аристотеля (Met. 1090b 20 – 1090b 35):
"Те, кто признает математическое число как первое и существующее отдельно, должны объяснить, каким образом оно существует. Если их принципы применимы только к нему самому, а не к чувственным вещам, то какое отношение оно имеет к ним? И почему математические свойства, изучаемые в абстракции, с такой точностью проявляются в чувственных телах, если эти объекты разделены?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай акцентирует, что Аристотель здесь указывает на эпистемологический парадокс. Если математические объекты существуют в неком "третьем мире", отдельно и от идей, и от вещей, то как возможно наше знание о них (проблема припоминания или иного доступа) и, главное, почему это знание так эффективно применяется к материальному миру? Аристотель предлагает свое решение: математические объекты не отдельно существуют, а мы абстрагируем их из свойств самих чувственных вещей. Поэтому их законы и применимы к ним.
Работа: "Аристотель и платоновская теория идей" (в соавт.). М.: РГГУ, 2017. С. 140-143.
Суть комментария: Аристотель решает проблему применимости математики через теорию абстракции, избегая гипотезы о separate existence (отдельном существовании).
Penelope Maddy (Зарубежный специалист): Мэдди, современный философ математики, отмечает, что аристотелевская критика предвосхищает современные споры о платонизме в математике. Вопрос "Why does mathematics apply so well to the physical world?" остается центральным. Аристотелевский ответ (математика абстрагирует свойства физических объектов) является одной из влиятельных альтернатив платонизму, известной как "аристотелевский реализм" или "абстракционизм".
Работа: "Realism in Mathematics". Oxford: Oxford University Press, 1990. P. 32-35 (исторический экскурс).
Суть комментария: Аристотель предлагает имманентную, а не трансцендентную онтологию для математических объектов, решая проблему применимости через их происхождение из опыта.
4. Опровержение аргумента о границах (точка, линия, поверхность)
Текст Аристотеля (Met. 1090b 35 – 1091a 5):
"Некоторые полагают, что существуют точки, линии и поверхности как сущности, исходя из того, что тело ограничено поверхностью, та – линией, а линия – точкой. Но это заблуждение. Граница – это не часть ограничиваемого и не его сущность, а лишь предел… Как конец пути не есть что-то отдельное от пути, так и точка не есть нечто отдельное от линии."
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф подчеркивает, что Аристотель проводит фундаментальное онтологическое различие между самостоятельной сущностью (ουσία) и пределом (πέρας). Предел всегда вторичен и существует только как аспект того, что он ограничивает. Он не имеет самостоятельного бытия. Таким образом, аргумент от границ является софистическим: он принимает модус существования (быть границей) за отдельный вид сущего. Это еще один пример категориальной ошибки.
Работа: "Метафизика Аристотеля: современные исследования". СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 120-123.
Суть комментария: Аристотель защищает холизм (принцип целостности): целое онтологически первично своих частей и границ.
Henry Mendell (Зарубежный специалист): Менделл рассматривает этот аргумент в контексте античной математики. Платоники, следуя за пифагорейцами, стремились онтологизировать геометрические объекты. Аристотель же предлагает реляционную теорию: геометрические объекты определяются через свои отношения и функции (например, точка как неделимый предел). Их существование – не субстанциальное, а функциональное. Это позволяет сохранить математику как науку, не наполняя мир лишними сущностями.
Работа: "Aristotle and Mathematics" // Stanford Encyclopedia of Philosophy (раздел о геометрических объектах).
Суть комментария: Аристотель отделяет математический дискурс (где мы можем говорить о точках и линиях "как если бы" они существовали) от онтологических утверждений.
5. Отсутствие причинности и взаимосвязи в онтологии математиков
Текст Аристотеля (Met. 1091a 5 – 1091a 15):
"Но самый главный вопрос таков: почему число и величина, и вообще математические сущности, будучи отдельными, влияют друг на друга? Их бытие не связано: если бы чисел не было, ничто не мешало бы существовать величинам, и наоборот… Но природа не похожа на плохую трагедию, где эпизоды не связаны между собой. У начал сущего должна быть связь и порядок."
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит в этом одном из самых глубоких возражений Аристотеля. Онтология платоников и математиков оказывается бессистемным набором разрозненных сущностей (идеи, математические объекты, души, тела) без ясных причинно-следственных связей между ними. Это противоречит главному принципу аристотелевского исследования – поиску причин и начал, образующих единый, связный космос. Его знаменитое сравнение с "плохой трагедией" (где сцены можно переставлять без ущерба для смысла) – это обвинение в отсутствии teleology (телеологии), целесообразной связи.
Работа: "Аристотель и платонизм: критика учения об идеальных числах" // Философский журнал. 2010. № 2. С. 22-24.
Суть комментария: Аристотель требует от онтологии не только логической последовательности, но и системной целостности, которую обеспечивает его учение о четырех причинах и иерархии сущего.
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир развивает эту мысль: Аристотель – философ единства и взаимосвязи. Его космос – это упорядоченное целое, где все части взаимосвязаны и подчинены единой цели. Онтология же, которая постулирует несколько независимых миров (идеальный, математический, физический), разрушает это единство. Она не может объяснить, как эти миры взаимодействуют и почему они согласованы. Для Аристотеля это неприемлемо.
Работа: "Aristotle: The Desire to Understand". Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 285-287.
Суть комментария: Критика основана на принципе единства космоса и требования объяснительной связности онтологической теории.
6. Несостоятельность платоновской конструкции величин из чисел
Текст Аристотеля (Met. 1091a 15 – 1091a 30):
"Некоторые, пытаясь связать числа с величинами, говорят: из Единого и материи происходит число, а из числа – величины: из Двойки – длина, из Тройки – плоскость, из Четверки – тело. Но являются ли эти величины идеями? Тогда идеи будут состоять из идей… И как к ним применить геометрические теоремы? Они же не о идеях, но о чувственных вещах, измеряемых математически."
Комментарии:
А.В. Ахутин (СССР/Россия): Ахутин обращает внимание на произвольность и механистичность этой платоновской конструкции. Соответствие между числом и измерением (2 -> 1D, 3 -> 2D, 4 -> 3D) взято не из сущности самих чисел, а из чисто внешней аналогии. Аристотель справедливо указывает, что такая конструкция бесплодна: она не объясняет природу геометрических объектов и не служит основанием для геометрических доказательств, которые работают с идеализированными, но не трансцендентными объектами.
Работа: "Понятие природы в античности и в новое время". М.: Наука, 1988. С. 155-157.
Суть комментария: Аристотель вскрывает надуманность и схоластичность попытки вывести богатство геометрического мира из чистой арифметики.
Ian Mueller (Зарубежный специалист): Мюллер, историк античной математики, подтверждает правоту Аристотеля. Греческая геометрия времен Платона и Аристотеля уже была высокоразвитой дедуктивной наукой, не зависящей от арифметики (которая, кстати, была слабее развита). Попытки редуцировать геометрию к арифметике были спекулятивными и не влияли на реальную математическую практику. Аристотель, таким образом, защищает автономию геометрии как науки о непрерывных величинах.
Работа: "Aristotle on Geometrical Objects" // Archiv für Geschichte der Philosophie 52, 1970, pp. 156-171.
Суть комментария: Аристотель отстаивает независимость различных математических дисциплин и критикует спекулятивные попытки их сведения друг к другу.
7. Апории дуализма: идеальное vs математическое число
Текст Аристотеля (Met. 1091a 30 – 1091b 5):
"Если же существуют два вида числа – идеальное и математическое, – то должны быть и два их начала. Но если начала одни и те же, каким образом числа получаются разными? Если же начала разные, то как они соотносятся? И если единица есть нечто общее для обоих, то мы снова возвращаемся к вопросу: чем же тогда они отличаются?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай интерпретирует этот пассаж как демонстрацию логического тупика, в который заходят те, кто пытается совместить теорию идей с автономией математики. Введение двух типов чисел – это ad hoc гипотеза, призванная спасти теорию от критики, но она только умножает сущности и проблемы. Аристотель показывает, что эта гипотеза либо ведет к тавтологии (числа одинаковы, если начала одинаковы), либо к полному разрыву между мирами (если начала разные), либо к неразрешимой проблеме общего и частного (если единица общая).
Работа: "Критика Аристотелем платоновского учения о принципах" // ΣΧΟΛΗ, 2008. 2(2). С. 288-290.
Суть комментария: Аристотель применяет метод диэрезиса (различения) и показывает, что все возможные варианты дуалистической теории числа ведут к противоречиям.
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн видит здесь пример аристотелевского диалектического метода. Он берет теорию оппонента, развивает все возможные следствия из ее предпосылок и показывает, что они ведут к апориям. Это заставляет либо отказаться от теории, либо радикально ее пересмотреть. В данном случае дуализм числа оказывается логически несостоятельным.
Работа: "Logic, Science and Dialectic". London: Duckworth, 1986. P. 210-212.
Суть комментария: Аристотель использует логику, чтобы показать, что компромиссные решения в метафизике часто лишь усугубляют проблемы.
8. Невозможность «порождения» вечного (критика пифагорейского космогенеза)
Текст Аристотеля (Met. 1091a 5 – 1091a 15):
"Но самое нелепое – это говорить о возникновении вечных вещей… Пифагорейцы же говорят, что когда Единое было составлено (из четного и нечетного), тогда оно, ограничивая Беспредельное, породило число и весь космос. Но как может вечное иметь возникновение? Это противоречие в самих словах."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко усматривает в этом заключительном аккорде возвращение к фундаментальному принципу, с которого началась глава 2. Аристотель настаивает на абсолютном различии между вечным и возникающим. Любой миф о космогенезе, описывающий возникновение вечного космоса или вечных чисел, логически порочен. Вечное по определению не может иметь начала во времени. Это априорное требование разума, которое должно соблюдаться в любой претендующей на истинность метафизической системе.











