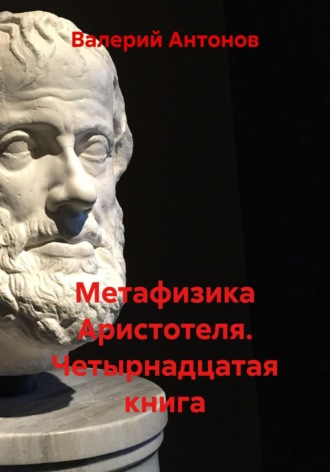
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четырнадцатая книга
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР/Россия): Лосев, глубоко изучавший античную философию и симпатизировавший платонизму, видит в этом пассаже фундаментальное различие между Платоном и Аристотелем. Для Платона противоположности (Единое и Неопределенная Двоица) – это сверхсущие принципы, порождающие бытие. Аристотель же требует онтологического субстрата для любых свойств и отношений. Лосев подчеркивает, что критика Аристотеля справедлива с точки зрения эмпирического и чувственного мира, но она "не достигает своей цели", когда применяется к платоновскому миру идей-чисел, который по определению запределен чувственному субстрату.
Работа: "История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика". М.: Искусство, 1975. С. 52-55, 78-80.
Суть комментария: Аристотель "онтологизирует" и "субстанциализирует" логические принципы Платона, низводя их до уровня акциденций, что является, по Лосеву, непониманием их трансцендентной природы.
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Сэр Дэвид Росс, классический комментатор Аристотеля, видит здесь строго логический аргумент, вытекающий из аристотелевского учения о категориях. Противоположности (белое/черное, большое/малое) всегда являются качествами или отношениями, а значит, принадлежат чему-то первичному – субстанции (ουσία). Субстанция же не имеет противоположности (человеку не противопоставлено ничего, кроме не-человека, что есть лишенность, а не сущность). Следовательно, ничто производное и несамодостаточное (как противоположности) не может быть первоосновой (архэ) всего.
Работа: "Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary". Vol. II. Oxford: Clarendon Press, 1924. P. 468-469.
Суть комментария: Аргумент Аристотеля основан на примате субстанции над всеми другими категориями. Начало должно быть самодостаточным и не нуждаться в подлежащем, каковым и является субстанция. Противоположности этому критерию не удовлетворяют.
2. Анализ конкретных учений: платоников и пифагорейцев.
Текст Аристотеля (Met. 1087b 4 – 1088a 15):
"А те, которые принимают противоположности, не должны ограничиваться одними [противоположностями], которые они принимают… Далее, мы видим, что у них одно противополагается многому. Но тогда, если бы единое противопоставлялось многому, возникает много нелепостей: ведь одно будет немногим (поскольку многое противопоставляется малому), и тогда единое окажется немногим… Кроме того, они говорят, что число состоит из единого и из неравного, т. е. из великого и малого. Но такое неравное, великое и малое, должно быть либо тождественным друг другу, либо нет. Если оно тождественно, тогда мы получаем, что из него и единого состоит все, но тогда элементы будут не двумя, а одним… Если же они не тождественны, то мы должны спросить: почему великое и малое, а не многое и малое, или большое и маленькое, или какое-то иное из относительных?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай, специалист по античной философии, акцентирует внимание на логической педантичности Аристотеля. Он показывает, что Аристотель выявляет внутреннюю непоследовательность в построениях оппонентов. Указание на то, что «единое» при противопоставлении «многому» должно быть «немногим», – это прием reductio ad absurdum (сведение к абсурду). Аристотель демонстрирует, что платоники произвольно выбирают пару противоположностей, не давая строгого обоснования, почему именно эта пара (Единое и Неравное) является первоначальной, а не любая другая.
Работа: "Аристотель и платоновская теория идей". (В соавторстве с А.В. Семушкиным). В кн.: Платон и Аристотель в их творческом взаимодействии. М.: РГГУ, 2017. С. 120-125.
Суть комментария: Критика направлена на необоснованность выбора конкретной пары противоположностей и на логические парадоксы, к которым приводит такой выбор в рамках самой системы платоников.
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс, автор фундаментального исследования по метафизике Аристотеля, интерпретирует этот пассаж как часть более широкой полемики о природе единства. Платоники и пифагорейцы пытаются объяснить множественность мира через введение второго начала, противоположного Единому. Но Аристотель показывает, что это второе начало само оказывается двусмысленным и неопределенным («великое и малое» как «неопределенная двоица»). Для Аристотеля же единство и множественность – это не самостоятельные сущности, а модусы бытия самой субстанции.
Работа: "The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'". 3rd ed. Toronto: PIMS, 1978. P. 402-405.
Суть комментария: Аристотель не просто находит логические ошибки; он показывает онтологическую слабость концепции, которая пытается построить мир из чисто количественных и Relational (относящихся) принципов, игнорируя первичность субстанциального бытия.
3. Сущность Единого как меры, а не субстанции.
Текст Аристотеля (Met. 1087b 33 – 1088a 15):
"Единое означает меру некоторого множества, а число означает измеренное множество и множество мер… Поэтому естественно, что единое не есть некоторая отдельная сущность: ведь так же обстоит дело и с другими мерами. И действительно, мера всегда есть мера чего-то другого… Поэтому если бы само по себе существовало бытие-единое и бытие-сущее, то единое и сущее означали бы меру, а не измеряемое… Единое, таким образом, есть начало как мера."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко подчеркивает, что в этом пункте Аристотель предлагает альтернативную, собственную концепцию Единого, которая имеет огромное значение для становления научного мышления. Единое лишается у Аристотеля мистико-онтологического статуса и становится функциональным принципом – мерой. Это рационализация понятия, переводящая его из области умозрительной метафизики в область логики и науки (математики, физики). Число – это не самостоятельная сущность, а результат измерения, то есть познавательная операция.
Работа: "Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ". М.: Наука, 1980. С. 298-303.
Суть комментария: Аристотель совершает "коперниканский переворот", превращая Единое из трансцендентной сущности в имманентный принцип познания и упорядочивания мира. Это основа аристотелевского понимания науки как изучения количественных отношений в природе.
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир рассматривает эту идею в контексте аристотелевской теории категорий. Единое является таковым только по отношению к чему-то иному, к некоей множественности, которую оно измеряет. Оно всегда вторично. Быть "одним" – значит быть "одним чем-то" (одной линией, одним человеком, одним весом). Таким образом, единство – это нечто привходящее, акцидентальное по отношению к субстанции, которая первична. Это прямо противоположно платоновскому взгляду, где Единое есть высшая реальность.
Работа: "Aristotle: The Desire to Understand". Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 277-280.
Суть комментария: Аристотель показывает, что "единое" – это не имя некоей вещи, а скорее способ говорить о чем-то другом. Это проявление его номиналистической тенденции в противовес платоновскому реализму.
4. Ошибочность отождествления «большого/малого» и «многого/малого» с материей.
Текст Аристотеля (Met. 1088a 15 – 1088b 2):
"Но они неправильно принимают большое и малое за элементы, и по указанной выше причине, и потому, что эти [начала] суть акциденции и отношения. Ведь всякое отношение есть нечто последнее по природе и бытию… Далее, большое и малое и все тому подобное суть отношения; а отношение есть наименее существенное из всего и позже [по природе] качества и количества. Поэтому оно не может быть родом или элементом существующих [вещей], как утверждают."
Комментарии:
А.В. Ахутин (СССР/Россия): Ахутин анализирует этот аргумент в свете понятия "материя" (ύλη) у Аристотеля. Материя – это потенция, субстрат, который сам по себе лишен формы, но способен ее принять. "Большое" и "малое" же не являются лишенностью формы; они сами суть определенные качества (количественные определения) или отношения. Следовательно, они не могут играть роль материи, так как уже являются чем-то оформленным (пусть и в категории отношения). Аристотель показывает, что платоники путают логический принцип неопределенности (своего рода "материю" в логическом смысле) с физической и онтологической материей.
Работа: "Понятие природы в античности и в новое время". М.: Наука, 1988. С. 145-148.
Суть комментария: Критика основана на различении у Аристотеля материи как субстрата и отношения как акциденции. Платоники пытаются онтологизировать логическое отношение, что приводит к категориальной ошибке.
Sarah Broadie (Зарубежный специалист): Броуди развивает эту мысль, указывая, что для Аристотеля материя должна быть тем, из чего нечто возникает и что persists (сохраняется) в процессе изменения. Отношение же не может persist таким образом. Если я уменьшаю кусок дерева, "большое" сменяется "малым", но сама материя (дерево) остается. Таким образом, "большое и малое" – это преходящие состояния материи, а не она сама. Они не могут быть первоначалом, так как сами зависят от более фундаментального носителя – субстанции и ее материи.
Работа: "Aristotle and Beyond: Essays on Metaphysics and Ethics". Cambridge: Cambridge Press, 2007. P. 24-26.
Суть комментария: Аргумент от персистенции: материя должна быть устойчивым субстратом изменения, в то время как отношения изменчивы и несамостоятельны.
5. Онтологический статус отношения и его неспособность быть первоначалом.
Текст Аристотеля (Met. 1088a 22 – 1088b 2):
"И далее, отношение не есть нечто существующее само по себе или какая-то сущность, но принадлежит к тому, что есть качество количества, и оно как бы отпрыск и случайное свойство количества, а не материя… Ибо отношение не имеет бытия само по себе, но его бытие состоит в том, чтобы быть тем, что оно есть, по отношению к другому."
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф, переводчик и комментатор "Метафизики", акцентирует иерархию категорий у Аристотеля. В этой иерархии отношение (πρός τι) занимает одно из низших мест. Оно полностью зависимо и производно. Его бытие – это "бытие-для-другого". Поэтому сделать отношение первоначалом – значит поставить следствие перед причиной, сделать несамостоятельное – самостоятельным. Это нарушение фундаментальных принципов аристотелевской онтологии, где на первом месте стоит независимая и самодостаточная сущность (в конечном счете – неподвижный перводвигатель).
Работа: "Метафизика Аристотеля: современные исследования" (в соавт.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 90-94.
Суть комментария: Аргумент основан на онтологическом приоритете: начало должно быть первичным и независимым, а отношение вторично и зависимо по определению.
Michael Frede (Зарубежный специалист): Фреде рассматривает этот аргумент в контексте аристотелевской семантики и логики. Слова, обозначающие отношения (например, "большой", "двойной"), приобретают значение только в связке с чем-то другим ("больше чего?", "двойной чего?"). Они не могут указывать на самостоятельную сущность. Поскольку язык и бытие у Аристотеля тесно связаны, тот факт, что термин является относительным (πρός τι), указывает на то, что и обозначаемая им реальность также является относительной и несубстанциальной.
Работа: "Essays in Ancient Philosophy". Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 81-83.
Суть комментария: Лингвистический аргумент: грамматическая и логическая природа относительных терминов отражает их онтологическую несамостоятельность.
6. Логическое доказательство невозможности «многого/малого» быть элементами числа.
Текст Аристотеля (Met. 1088b 2 – 1088b 14):
"Далее, элементы не сказываются о том, что из них состоит. Но многое и малое (в том смысле, в каком они принимаются за элементы) сказываются о числе: ведь число есть многое и малое… Следовательно, многое и малое не могут быть элементами числа. Кроме того, как могут многое и малое быть началом, если многое и малое не существуют друг без друга, а элемент должен быть первым, из чего [нечто состоит] как из первого?"
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит в этом заключительном аргументе применение аристотелевского учения о predicables (то, что может быть высказано). Элемент (στοιχεῖον) есть то, на что вещь делится и что входит в ее состав как материальная причина. Предикат же (сказуемое) указывает на свойство или сущность вещи. Аристотель проводит четкую границу: элемент не может быть предикатом составленной из него вещи (молекула воды не является "водой"). Но "многое" и "малое" – это именно предикаты, высказываемые о числе. Следовательно, они не могут быть его элементами.
Работа: "Аристотель и платонизм: критика учения об идеальных числах" // Философский журнал. 2010. № 2. С. 15-17.
Суть комментария: Аристотель использует логико-лингвистический анализ для различения материальной причины (элемент) и свойства (предикат), показывая, что платоники смешивают эти два плана.
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн, известный анализом методов аргументации у Аристотеля, интерпретирует этот пассаж как пример применения "правила элиминации". Если Х является элементом Y, то Y не может быть предицировано как Х. Мы не говорим "дерево – это древесина", мы говорим "дерево сделано из древесины". Платоники же, утверждая, что число состоит из Многого и Малого, одновременно вынуждены говорить, что число есть многое и малое (т.е. предицировать элементы о целом). Это, по Аристотелю, логическая ошибка, доказывающая, что Многое и Малое – не элементы, а свойства.
Работа: "Logic, Science and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy". Ed. by M. Nussbaum. London: Duckworth, 1986. P. 200-202.
Суть комментария: Аргумент основан на логическом правиле, запрещающем отождествлять часть и свойство целого. Это демонстрирует строгость аристотелевской критики.
Статьи, посвященные исследованию четырнадцатой книги и главы 1 "Метафизики":
Annick Jaulin. "La genèse du nombre dans la Métaphysique d'Aristote (livre M-N)". // Revue de Philosophie Ancienne, 1999, 17(2), p. 3-24. (Анализирует всю полемику Аристотеля с Платоном о числе в книгах XIII-XIV).
Stephen Menn. "Aristotle’s Criticism of Plato’s First Principle" (Chapter 5: "The Critique of the Great and Small"). // In his book: "The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics". 2012. (Подробный разбор критики "великого и малого" как материи).
Д.В. Бугай. "Критика Аристотелем платоновского учения о принципах" // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция, 2008, 2(2), с. 277–291. (Общая статья, но с фокусом на аргументы из книг М и Ника).
В.В. Петров. "Аристотель и платоновская Академия: спор об идеальных числах" // Историко-философский ежегодник. 1997. М., 1998. С. 5-35. (Классическая работа, детально разбирающая контекст и содержание полемики, включая главу 1 книги XIV).
Этот анализ показывает, что критика Аристотеля является системной, затрагивающей онтологические, логические и категориальные основания учений его предшественников.
Глава 2. Невозможность вечного состоять из элементов. Критика платоновского вывода множества из не-сущего.
1. Невозможность вечного бытия иметь материю и элементы.
Текст Аристотеля (Met. 1088b 14 – 1089a 2):
"Далее, все, что состоит из элементов, сложно. Но если вечное не может ни возникнуть, ни разрушиться, и если все, что состоит из элементов, необходимо должно возникать и разрушаться (ибо оно возникает, когда элементы соединяются определенным образом, и разрушается, когда они разъединяются), и если, таким образом, все состоящее из элементов имеет возникновение, – то ничто вечное не состоит из элементов… Ибо все, что имеет материю, способно и быть и не быть; а все, что вечно, существует с необходимостью. Следовательно, ничто вечное не имеет материи."
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР/Россия): Лосев видит здесь одно из центральных противоречий между двумя системами. Для Платона и пифагорейцев первоначала (Единое, Неопределенная Двоица) вечны, но при этом мыслятся как составляющие, элементы. Аристотель же утверждает, что подлинная вечность – это актуальная, завершенная и простая действительность, не имеющая в себе потенциальности, а значит, и материи. Лосев отмечает, что этот аргумент Аристотеля направлен против любой формы дуализма первоначал, так как любое составное единство потенциально может распасться.
Работа: "История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика". М.: Искусство, 1975. С. 85-87.
Суть комментария: Аристотель отстаивает принцип абсолютной простоты и актуальности высшего начала, что впоследствии ляжет в основу понятия Бога в монотеистической теологии. Платоновский дуализм первоначал для него – уступка потенциальности, а значит, не-бытию.
Werner Jaeger (Зарубежный специалист): Ягер, автор концепции эволюции метафизики Аристотеля, усматривает в этом аргументе связь с учением о Перводвигателе из XII книги (Λ). Критика платоников готовит почву для положительного аристотелевского учения о вечном, нематериальном и неподвижном начале, которое является чистой энергией (энтелехией) и мышлением о мышлении. Составное бытие не может быть вечным именно потому, что оно подвержено процессу возникновения и уничтожения, причиной которого является материя как принцип неопределенности.
Работа: "Aristotle: Fundamentals of the History of His Development". 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1948. P. 218-220.
Суть комментария: Аргумент основан на связи между составностью, материальностью и временностью. Аристотель выводит свойства высшего начала (простота, актуальность) из требования его вечности и необходимости.
2. Несостоятельность попыток избежать трудностей через «неопределенную двойственность».
Текст Аристотеля (Met. 1089a 2 – 1089a 15):
"Некоторые, полагая, что они могут избежать указанного затруднения, отказываются от наименования «неравное» и говорят вместо него о «неопределенной двойственности». Но уйти от затруднения таким способом невозможно… Ибо все те же самые следствия вытекают, называют ли они ее «неравным» или «превышающим и превышаемым» или «неопределенной двойственностью»: ведь во всех этих случаях получается, что она есть нечто относительное, а не нечто само по себе сущее или субстанция."
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь бьет в самую суть проблемы. Платоники, чувствуя слабость понятия "неравное" (как отношения), пытаются заменить его на более "загадочное" и фундаментальное – "неопределенная двойственность" (αόριστος δυάς). Однако Аристотель проводит точный логико-категориальный анализ: как бы ни называли этот принцип, его функция в системе остается прежней – быть источником множественности и инаковости, противопоставленным Единому. А значит, его онтологический статус не меняется: это все то же относительное, лишенное самостоятельности начало.
Работа: "Аристотель и платоновская теория идей" (в соавт.). М.: РГГУ, 2017. С. 130-132.
Суть комментария: Смена названия не меняет сущности явления. Аристотель показывает, что проблема не в терминологии, а в онтологической категории, к которой принадлежит второе начало у платоников.
Harold Cherniss (Зарубежный специалист): Чёрнисс, известный критик интерпретации Аристотелем Платона, тем не менее, признает силу этого аргумента. Он соглашается, что Аристотель прав в своем основном категориальном утверждении: "неопределенная двойственность", если она является принципом множественности и инаковости, по определению не может быть самотождественной сущностью (ουσία), а должна быть чем-то иным, то есть относительным (πρός τι). Поэтому она не может претендовать на роль подлинного первоначала в аристотелевском смысле.
Работа: "Aristotle's Criticism of Plato and the Academy". Vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1944. P. 504-506.
Суть комментария: Аристотель последовательно применяет свой категориальный аппарат и показывает, что любая попытка вывести мир из пары correlative terms (соотнесенных терминов) обречена на неудачу.
3. Источник заблуждения: неправильное решение апории Парменида.
Текст Аристотеля (Met. 1089a 2 – 1089a 15, продолжение):
"Причина же, почему они впали в это [заблуждение], состоит в том, что они занимались исследованием сущего вообще, а не сущего как сущего, и потому, что они не различали различных значений сущего… Они искали начала и причины для сущего вообще, рассматривая его как нечто единое, а не в различных смыслах."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко видит в этом замечании Аристотеля ключ ко всей его полемике. Платоники, пытаясь ответить на вызов Парменида ("есть только сущее, не-сущего нет"), приняли его предпосылку, что "сущее" говорится в одном смысле. Чтобы объяснить множественность, они были вынуждены ввести не-сущее как второе начало. Аристотель же решает апорию иначе: он показывает, что "сущее" говорится в многих смыслах (см. учение о категориях и о многозначности бытия). Поэтому не нужно вводить мифическое "не-сущее" – достаточно показать, как сущее проявляется в разных модусах (как сущность, как качество, как количество и т.д.).
Работа: "Парадоксы свободы в учении Фихте" (главы, посвященные античным истокам). М.: Наука, 1990. С. 45-48.
Суть комментария: Аристотель обвиняет предшественников в недостаточной аналитической проработке базовых понятий. Их ошибка – в "одномерности" мышления, в то время как его метод – это анализ многозначности (про̀ς ἕν) ключевых терминов.
Pierre Aubenque (Зарубежный специалист): Обенк, автор работы о проблеме бытия у Аристотеля, развивает эту мысль. Он утверждает, что Аристотель совершает "коперниканский переворот" в онтологии, отказываясь от поиска единого принципа для всего сущего и заменяя его поиском analogical unity (аналогического единства) различных значений бытия. Платоники же остаются в плену элейской парадигмы, что и заставляет их онтологизировать не-сущее.
Работа: "Le problème de l'être chez Aristote". Paris: PUF, 1962. P. 198-202
Суть комментария: Корень ошибки – в "элеатизме" самой платоновской программы, которую Аристотель преодолевает с помощью своего учения о многозначности бытия.
4. Истинная природа «не-сущего» в процессе возникновения.
Текст Аристотеля (Met. 1089a 15 – 1089a 30):
"Но «не-сущее» сказывается во многих значениях. Одно значение – как ложь, другое – как могущее быть… И вот, из не-сущего в смысле могущего быть возникает сущее, но не из всякого [не-сущего], а из [не-сущего] как из противоположности… Поэтому правильно говорить, что возникновение происходит из не-сущего, – но [имеется в виду] не-сущее в смысле могущего быть, а не в абсолютном смысле."
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф акцентирует, что здесь Аристотель противопоставляет платоновскому (и общегреческому) страху перед "не-сущим" как ничто или ложью свое позитивное учение о потенции (δύναμις). "Не-сущее" в контексте возникновения – это не отрицание бытия, а его возможность, его материя, еще не оформленная, но способная к оформлению. Это снимает парменидовский запрет на возникновение из не-бытия и делает ненужным платоновский постулат "не-сущего" как особого начала.
Работа: "Метафизика Аристотеля: современные исследования". СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 110-113.
Суть комментария: Аристотель проводит фундаментальную семантическую и онтологическую операцию: демифологизацию "не-сущего" и его перевод в регистр потенциальности.
Sarah Waterlow (Broadie) (Зарубежный специалист): Броуди (Уотерлоу) подчеркивает, что аристотелевское понятие потенции решает сразу две проблемы: 1) проблему возникновения (как нечто может возникнуть "из ничего") и 2) проблему множественности. Множественность возникает не из особого "начала множественности", а из самой материи как принципа неопределенности и возможности быть иначе. Таким образом, материя у Аристотеля выполняет ту же функцию, что и "неопределенная двоица" у Платона, но без придания ей статуса самостоятельного сверхсущего начала.
Работа: "Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics". Oxford: Clarendon Press, 1982. P. 63-65.
Суть комментария: Аристотель "спасает явления" (множественность и изменение), не вводя сомнительных сущностей, а переинтерпретируя общепринятые понятия (материя, возможность).
5. Ошибочная узость исследования: почему множественны именно сущности, а не все категории?
Текст Аристотеля (Met. 1089a 30 – 1089b 5):
"Далее, почему существует множество и в других категориях, а не только в сущности? Ведь если есть многое в [категории] отношения, то и для него должны существовать свои элементы и начала. Но каким же образом это возможно? Ведь невозможно, чтобы элементы сущности были в то же время элементами отношения… Или же [это значит], что вообще нет элементов для сущего как такового?"











