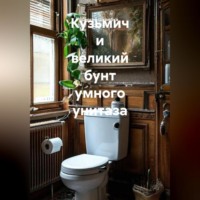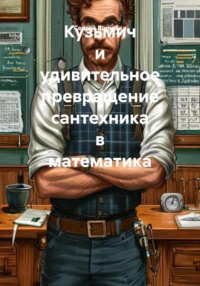Полная версия
Мировая ткань
Они жили. С любовью, с горечью за чужие неспасённые потери, с тихой радостью от каждого зажжённого в чьих-то глазах огонька надежды. Но Морок не был глуп. Он понял, что открытая схватка с Неразлучниками – игра с огнём. И он сменил тактику. Перестал бросаться на отдельные души, как шакал. Он начал копать глубже. Гораздо глубже. Его цель теперь была не сиюминутное горе, а сама память народа. Фундамент, на котором стояла Явь. Он стал Историком Лжи, переписывая страницы прошлого, впрыскивая яд сомнения и ненависти в корни национального самосознания. Искажая не судьбы, а саму душу времени.
Именно этот новый, страшный яд они почувствовали в Великом Новгороде. Поездка по Золотому кольцу была редкой попыткой вырваться из круга войны, побыть просто людьми – влюблённой парой, жаждущей красоты древних стен и тишины истории. Они стояли у подножия Софийского собора, его белоснежные стены и золочёные купола взмывали в пронзительно-синее сентябрьское небо. Воздух был напоен запахом прелой листвы, речной сырости и векового камня. Влад обнял Настю за плечи, они молча впитывали вековую мощь, исходившую от этих стен, переживших столько бурь. Настя прислонилась головой к его плечу, наслаждаясь редким миром.
И в этот миг перстень «Лад» на безымянном пальце Влада взревел.
Не импульсом, не толчком – именно взревел. Ледяная, рвущая плоть боль ударила из кольца в руку, взметнулась по нервам к плечу, вонзилась кинжалом в висок. Влад вскрикнул, невольно сжимая руку Насти так, что она ахнула от неожиданности и боли. Он схватился за запястье правой рукой, где металл перстня стал не просто холодным, а обжигающе-ледяным, словно прикосновение абсолютного нуля.
– Влад?! – Настя вырвалась, ее глаза мгновенно стали собранными, боевыми. Ее рука уже лежала на обереге. Деревянная фигурка под тонкой тканью свитера пульсировала тревожным, почти горячим золотым светом, как сердце в панике. Она инстинктивно оглядела толпу туристов, гидов, местных торговцев сувенирами – но опасность исходила не от людей. Оберег буквально тянул ее взгляд, как магнит, к южной стене собора, к мощной, покрытой патиной времени каменной плите, вмурованной в кладку у самого основания. На ней были высечены глубокие, чёткие буквы – отрывок из летописи, знакомый, казалось бы, каждому со школьной скамьи, повествующий о грозных временах Ивана Васильевича.
– Что… что это? – прошептал Влад, стискивая зубы, чтобы не закричать снова. Боль в руке была адской, но страшнее было ощущение в голове – давление, гул, как от мощного инфразвука. – Текст… Память,… застывшая в камне… Она… она гниёт. Морок… он здесь. В самой Истории.
Он сделал шаг, потом другой, преодолевая волну тошноты и ледяного жжения в руке. Подошёл к плите. Камень дышал холодом и… чем-то кислым, прелым. Напряжение от перстня достигло пика, превратив руку в сведённую судорогой ледышку. Влад поднял дрожащую руку, не касаясь древнего камня. Серебристое острие перстня повёл вдоль строк, как сканер по странице. Из острия заструился чистый, холодный серебристый свет, очерчивая каждую высеченную букву, заливая рельеф призрачным сиянием.
И мир раскололся.
Перед его внутренним взором, затмив реальность Новгородского кремля, развернулись два гигантских, противоречащих друг другу полотна – как в древнем театре с двойной сценой.
Первое полотно – Ложное, Мороково: Знакомый, навязший в зубах образ. Иван Грозный. Не человек – исчадие. Лицо, искажённое паранойей и садизмом, горящие безумием глаза. Рука, сжимающая окровавленный посох – орудие убийства собственного сына. Фигура, пляшущая на фоне костров опричнины, в дыму горящих городов, в криках замученных. Кровавый деспот, ввергший страну в хаос, тиран, уничтожавший лучших умов из каприза или страха. Личность, окутанная непроглядным мраком, леденящим страхом, патологическим безумием. Его имя – клеймо, синоним жестокости, основа векового страха и недоверия к самой идее сильной власти. Этот образ висел над плитой не просто картинкой – он был сущностью. Чёрной, ядовитой хмарью, сочащейся ненавистью и отчаянием, отравляя сам воздух вокруг, проникая в подсознание каждого, кто смотрел на плиту. Влад физически чувствовал ее тяжесть, ее гнилостный запах, ее шёпот, вползающий в мозг: "Убийца… Тиран… Безумец…"
Второе полотно – Истинное, скрытое под мороковой скверной: Совершенно иной государь. Иоанн Васильевич. Суровый? Беспощадный к измене и предательству? Да. Время было жестоким, нож у горла – обычным делом. Но не безумный убийца. Стратег, сражающийся не с призраками, а с реальной боярской крамолой, разъедавшей страну изнутри, как червь точит яблоко. Человек, пытавшийся централизовать власть не из мании величия, а для выживания молодого, осаждаемого со всех сторон государства. Отец, потерявший сына не в припадке слепой ярости, а в результате трагического стечения обстоятельств, возможно, спровоцированных теми самыми врагами, против которых он боролся не на жизнь, а на смерть. Правитель, чьи реформы, сколь бы суровыми они ни казались потомкам, были порождены жестокой логикой выживания и заложили основы будущей мощи. Его образ был строгим, трагическим, измождённым бременем власти, но – человеческим, лишённым патологической жестокости, навязанных демонических черт. Лицо было изборождено морщинами забот, а не гримасой безумия, глаза смотрели устало, но твёрдо.
Контраст был ошеломляющим, как удар обухом. Искажение касалось не деталей, а самой сути, самой оценки ключевой фигуры, определившей путь страны. И этот яд, эта морокова ложь, столетиями отравляла родник национального самосознания, питая корни недоверия, страха, разобщённости – идеальную почву для Тьмы. Влад чувствовал этот яд в себе, как горечь на языке, ощущал, как ложный образ пытается вцепиться в его сознание.
– Настя… – его голос был хриплым, пересохшим. – Он… он не просто солгал. Он вытравил человека. Сделал монстра. И этот монстр… живёт. Дышит ядом. Веками.
– Исправь, – прозвучало тихо, но с невероятной силой. Настя уже стояла спиной к нему, ее поза была защитной стойкой. Оберег на ее груди пылал ровным, ярким золотом, сканируя пространство вокруг плиты. – Сейчас. Пока мы здесь. Пока я чувствую его… прикосновение к этому месту. Он охраняет свою ложь. Он рядом.
Влад кивнул. Сомнений не было. Не стирать древний камень – это было бы кощунством. Нужно наложить свою Печать Лада на саму память места, на энергетический отпечаток события, запечатлённый в камне и пространстве. Нужно вписать Истину рядом с Ложью, чтобы Правда стала противоядием.
Он закрыл глаза на миг, отбросив мороковы видения. Внутри него встал Образ Истины – Иоанн Васильевич, каким он его увидел. Государь. Воин. Страдалец. Отец. Человек эпохи. Влад поднял руку. Серебристое острие перстня коснулось воздуха перед плитой, в сантиметре от высеченных букв. И задвигалось. Не царапая, не вырезая, а творя. Яркие, чистые линии серебристого света, словно раскалённая платина, выводили буквы, слова, фразы прямо на невидимом холсте пространства. Это был не просто текст. Это была сама Суть, квинтэссенция Правды, воплощённая силой Воина Слова. Краткий, но невероятно ёмкий портрет эпохи и человека, очищенный от мороковой скверны. Этот светящийся, вибрирующий текст накладывался поверх древней плиты, не стирая ее физически, но вступая с ней в молчаливый, яростный диалог веков.
Морок не мог допустить этого. Его ложь восстала.
Каменные буквы на плите словно пошевелились. Из глубоких борозд, из трещин времени, поползли черные, маслянистые струйки. Они сгущались, сливались, принимая обличья шепчущих бояр-клеветников. Их рты растягивались в немых криках, извергая чёрную слюну клеветы, плачущих жён в разорванных одеждах. Слезы их были черни и оставляли ожоги на камне, но облике самого царя – но в искажённом, гротескном виде: огромного, с безумными, горящими жёлтым светом глазами, с окровавленным посохом, замахивающимся на призрачного царевича. Это были «Лжецы» – эманации самой искажённой Правды, порождения мороковой лжи, охранявшие своё гнездо в камне. Физические воплощения той самой ядовитой хмари.
Они набросились не только физически, но и на разум. Их шёпот заполнил голову Влада, превратившись в навязчивый, ядовитый хор:
«Он сумасшедший! Убийца! Кровопийца! Все знают! Все видели! Твоя, правда – ересь! Отступничество! Сомневайся! Отступи!»
«Кто ты такой, жалкий писарюшка, чтобы судить государя и историю? Твои слова – пыль под сапогом времени! Исчезни!»
«Посмотри на него! Вот он – истинный лик! Безумец! Тиран! Палач!» – И перед глазами Влада, накладываясь на его попытки писать, встал жуткий образ Грозного-чудовища из первого полотна, усиленный в сто крат, с кровавой пеной у рта.
Голова загудела, как улей. Сомнение, коварное и липкое, как смола, попыталось обволакивать его волю, парализовать руку. Серебристые буквы померкли, их написание замедлилось, стало прерывистым. Влад почувствовал холодный пот на спине.
– ЛОЖЬ! – прогремел голос Насти. Не просто крик, а удар чистого, колокольного звука, усиленный до физической вибрации золотым светом оберега. Золотая волна хлынула от неё, сметая налетевших «Лжецов». Их тенистые, маслянистые формы зашипели, как вода на раскалённой плите, заклубились черным дымом и поплыли, рассеиваясь, как дым на ветру. – Держись, Влад! Пиши! Это лишь тени, порождённые кривым зеркалом его лжи! Он боится твоей Правды!
Она шагнула вперёд, встав между мужем и разъярённой плитой, ее оберег пылал, как миниатюрное солнце. Она стала живым щитом, отражая не только новые волны материализующихся «Лжецов», вылезавших из камня с шипением, но и атаки на сознание – навязчивые видения, шёпоты, попытки Морока сбить Влада с толку, заставить усомниться. Ее свет резал тьму, ее спокойствие было якорем.
Влад стиснул зубы до хруста. Он вцепился взглядом не в мороковы кошмары, а в тот Истинный Образ, что жил в его сердце. В Иоанна – человека, государя, отца. Его перстень-перо снова задвигался – быстрее, увереннее. Серебристые слова крепли, сплетаясь в ладную, неоспоримую ткань Правды. Он чувствовал, как сила его Слова, его воли, воплощённая в Печати Лада, вступает в прямое противоборство с вековой, укоренившейся ложью, запечатанной в камне. Это была битва не на мечах, а на смыслах. Битва за саму душу истории.
И вот, последняя серебристая буква была выведена. Текст Истины, сияющий, цельный, вибрирующий чистотой, завис в воздухе перед древней плитой, как гимн, написанный светом. Влад собрал всю волю, всю ярость против лжи, всю веру в Правду. Он с силой, будто вбивая гвоздь в крышку гроба Морока, вдавил острие перстня в центр написанного.
– ПЕЧАТЬ ЛАДА! – его голос прогремел над площадью, заставив нескольких туристов оглянуться в недоумении. – ПО ИСТИНЕ БЫТЬ!
Серебристый символ двух сомкнутых ладоней – их знак, их клятва – вспыхнул в центре светящегося текста, как ослепительная вспышка. Волна чистой, неискажённой, мощной энергии Правды рванула от перстня. Она ударила в древнюю плиту, пронзила светящийся текст «Правды», а затем разлилась мощным, невидимым цунами по окружающему пространству, сметая остатки чёрной хмари.
Произошло преображение.
Ложная надпись на камне не исчезла физически – она просто померкла. Потускнела. Ядовитая аура, окружавшая имя и образ Иоанна Васильевича, рассеялась, как дым. Сила ее воздействия, ее отравляющего влияния, на подсознание смотрящего, ослабла в этом конкретном месте до едва уловимого фона. А серебристый текст Истины не исчез. Он остался висеть в воздухе, лёгкий, полупрозрачный, как мираж в жару, невидимый для обычного глаза, но ощутимый на уровне души как прилив свежего воздуха, как глоток чистой воды из родника для путника, задыхающегося во лжи. Он стал вечной Печатью Лада, наложенной на память места, постоянным нейтрализатором морокова яда.
Но энергия, высвобожденная этим актом исправления Истории, была столь колоссальной, что сама ткань реальности не выдержала. Пространство вокруг Влада и Насти заколебалось. Камни Софийского собора поплыли, как в мареве. Крики чаек исказились до электронного визга. Толпа туристов, лотки с сувенирами, асфальт под ногами – все превратилось в размытые, вибрирующие пятна цвета. Их с колоссальной силой, как щепки в водовороте, вырвало из привычной реальности. Сознание померкло.
Они очнулись… стоя на той же самой площади перед Софийским собором. Но мир вокруг был другим.
Собор… сиял. Меньше следов времени, меньше потемневшего камня. Стены белее, купола золотые, как только что поднятые из огня. Люди вокруг… одеты иначе. Мужики в длинных кафтанах, женщины в цветных сарафанах и кокошниках. Воздух был гуще, пахнул дымом печей, конским навозом, свежеструганным деревом и… спокойствием. Не застоем, а уверенностью. Но главное – атмосфера была непривычной им исторической достопримечательностью, а живой реальностью. И на площади, у подножия лестницы, ведущей в собор, стояла группа. В центре – высокий, суровый мужчина в парчовом кафтане, с окладистой бородой, прорезанной сединой. Его лицо было изборождено заботами, но глаза горели умом и властной силой. Рядом с ним – молодой, крепкий царевич, в доспехах поверх бархатного кафтана, с умными, живыми глазами, полными достоинства. Иоанн Васильевич. Живой. И его сын. Живой. Государь положил тяжёлую руку на плечо сына – жест гордости, надежды, преемственности. Над Новгородским Кремлем развевалось знамя с другим гербом – не знакомым двуглавым орлом Романовых, а символом Рюриковичей. Надпись на знакомой плите у стены была иной, высеченной свежее – она говорила о мудром правлении, укреплении державы и крепкой династии.
– Рюриковичи… – прошептала Настя, ее пальцы вцепились в рукав Влада. Глаза были широко раскрыты не только от изумления, но и от глубинного потрясения. – Сын… жив. Династия… продолжается. Значит,… Смуты… не будет? Романовых… не будет? – Последние слова прозвучали как эхо из бездны.
Они стояли, ошеломлённые, в самом сердце альтернативной Руси. Воздух здесь был другим – тяжёлым от незнакомой истории, от мощного, незнакомого потока времени, но лишённым того знакомого, сладковато-горького яда отчаяния и искажённой памяти, что отравлял их родной мир. Они исправили тень на летописи одного места. И это исправление оказалось ключом, открывшим дверь не в Навь, а в иную ветвь Яви. В мир, где искажение, внесённое Мороком и только что ослабленное Владом, не произошло. В мир, где трагедия была предотвращена, а история пошла по другому, неведомому руслу. Мир, который сам был частью великого, украденного у их реальности «Могло бы быть».
Перстень Влада на пальце тихо пульсировал, не болью, а настороженным теплом. Оберег Насти светился ровным, задумчивым золотым светом, будто осмысливая произошедшее. Их первая битва за саму Историю была выиграна на их родной земле. Но цена… и последствия этого шага обрушились на них немыслимым грузом. Они были в другом мире. И тень Морока, чьё творение они только что осквернили Правдой, наверняка уже накрыла их своим ледяным крылом. Охота только начиналась. И правила ее были теперь совершенно неизвестны.
Часть шестая: "Альтернатива"
Тишина, наступившая после грохота битвы и вихря перемещения, была не просто отсутствием звука. Она была плотной, осязаемой субстанцией, обрушившейся на уши, оглушающей после какофонии искажённой реальности. Воздух Новгорода… дышал иначе. Он был просто чистый, насыщенный, как густой мёд. Он вбирал в себя запахи, чуждые их эпохе: едкую смолистость дёгтя, которым пропитывали рыбацкие лодки у причала. А так же терпкую свежесть недавно спиленных сосновых брёвен, сложенных у строящегося амбара. В нем чувствовался сладковатый дымок берёзовых дров, тлеющих в печах. И под всем этим – тяжёлый, тёплый дух земли, конского пота и человеческого труда. Но сильнее всего ощущалась уверенность. Она исходила от мощных, не тронутых временем стен Кремля, высившихся не как музейный экспонат, а как неприступная твердыня. От гордой, несуетливой осанки стрельцов в практичных, темно-синих кафтанах с простыми, но прочными кожаными доспехами. От самого облика людей на площади – мужиков в домотканых зипунах, женщин в скромных, но добротных понёвах. Их движения были размеренными, взгляды – прямыми, спокойными, без суетливого блеска или туманной отрешённости большого города. В них читалось знание своего места и принятие порядка вещей.
Влад и Настя стояли, прижавшись, друг к другу спинами, как два щита, сомкнутые в боевом порядке. Перстень "Лад" на пальце Влада излучал не тепло, а ровное, глубокое жжение, как раскалённый уголёк, затаивший свою силу. Оберег Насти пульсировал на ее груди ровным, тёплым золотым светом – не тревожным, но глубоко сосредоточенным, как второе, бдительное сердце. Они смотрели на площадь, на живого царевича – молодого, крепкого, с умными глазами, полными не задора, а осознанного долга. На государя Иоанна Васильевича – его лицо было изборождено заботами, но взгляд, устремлённый на сына, светился не безумием, а суровой, почти неподвижной гордостью и усталой надеждой. Никакой тени былой трагедии, только тяжесть короны.
– Рюриковичи… – повторила Настя шёпотом, ее пальцы вцепились в рукав Влада так, что костяшки побелели. Глаза, широко раскрытые, метались, пытаясь охватить невероятность. – Не прервались. Значит,… Смуты не будет? Ни Лжедмитриев, ни польских крыл над Москвой? Ни Семибоярщины? Романовых… – она сделала паузу, словно боясь произнести имя, – …не будет вовсе? Это… – она искала слово, – …совершенно? Идеально?
Слово повисло в воздухе, как нелепый, хрустальный шар. Мир казался идеальным. Он был цельным, как выточенный из цельного дуба стол, прочным, как кремлёвские стены. Порядок, исходивший от фигуры государя, от размеренного движения на площади, был осязаем, как камень под ногами. Но Влад почувствовал ледяной укол сомнения, тонкий, как игла. Перстень на его пальце дрогнул, послав слабый, тревожный импульс – не боль, а предостережение.
– Идеально? – он огляделся медленно, впитывая детали не глазами, а всем существом Воина Слова. – Посмотри внимательнее, Лада. Загляни за глянец.
Она последовала его взгляду. Да, люди были спокойны. Но это спокойствие было… минеральным. Торговля у лотков шла размеренно, без привычного гвалта, криков зазывал и азартного торга. Разговоры велись тихие, обстоятельные, с долгими паузами. Взгляды, бросаемые на государя и царевича, были полны уважения, но и… опаски. Словно боялись не столько наказания, сколько нарушить хрупкий, раз и навсегда установленный баланс бытия. Не было той знакомой по их миру кипучей, хаотичной энергии рынка, взрыва смеха из кабака, спонтанной песни подгулявшего молодца. Здесь царил Лад, но Лад застывший, кристаллизованный в своей самой консервативной, неизменной форме. Порядок, выкованный, казалось, навеки, но купленный ценой чего? Ценой духа бунтарства Новгорода? Ценой вольницы казачьей, буйной и непредсказуемой? Ценой того самого безумного порыва в неизвестность, что рождал новые земли, новые песни, новую боль и новую радость? Здесь все – от последнего нищего до первого боярина – казалось винтиком в огромном, незыблемом механизме Государства, удобным, смазанным, но лишённым права на сбой.
– Он здесь, – тихо сказала Настя, коснувшись оберега. Его золотое сияние слегка померкло, словно наткнувшись на невидимую преграду. – Морок. Его тень… тоньше паутины, но она вездесуща. Он не украл катастрофу, как у нас. Он… предотвратил ее, подменив саму душу происходящего. Он создал стабильность. Но стабильность эту… ты чувствуешь? Она давит. Как свинцовый колпак. Где искра? Где риск? Где право на ошибку, которая может привести к чему-то новому?
Влад кивнул. Его внутренний взор, обострённый силой Воина Слова, сканировал реальность, выискивая искажения. Архитектура Софии – мощная, но лишённая позднейших барочных излишеств, строгая, почти аскетичная. В одеждах знати, мелькавшей в толпе, – минимум заморских тканей и фасонов, преобладали традиционные, добротные русские крои, словно мода замерла столетие назад. Это был мир, застывший в развитии, как муха в янтаре. Мир, избежавший кровавых потрясений ценой… самой возможности резкого движения вперёд? Мир, где "всё могло бы быть иначе" реализовалось, но оказалось не раем, а иной формой существования – безупречно отлаженной, возможно, более безопасной, но до жути… безжизненной. Как идеально сохранившееся, но так и не родившееся дитя.
– Нам нужно понять правила этой… игры, – прошептал Влад, чувствуя, как перстень "Лад" излучает тревожное тепло. – И найти лазейку домой. Наш мир… он болен, искажён Мороком, изъеден его ложью, но он наш. Он дышит, болит, надеется. Здесь… – он махнул рукой, охватывая застывшую картину площади, – …здесь дышать нечем. Здесь исправлять нечего. Или не нам. Это не наша война. Это – его музейный экспонат.
– Но Морок здесь, – возразила Настя, ее голос звучал с металлической твёрдостью. – Он создал этот мир. Как доказательство своей победы? Как неприступную крепость? Или как изощрённую ловушку специально для нас, Неразлучников? Он не выпустит нас просто так. Он почуял нашу силу у плиты.
Как будто в ответ на ее слова, сквозь толпу, размеренно, как хорошо отлаженный механизм, к ним направился стрелецкий десятник. Человек лет сорока, с обветренным, бесстрастным лицом, глаза – узкие щёлочки, оценивающие. Его взгляд скользнул по их современной одежде – куртке Влада, джинсам Насти – и застыл, словно наткнувшись на нечто не просто чужеродное, а опасно неправильное. Его рука непроизвольно легла на рукоять тяжёлой секиры у пояса.
– Господа! – голос его был громким, отчеканенным, лишённым эмоций, но не агрессии. Звук резал тишину площади. – С лица незнакомы. И одеяние ваше… диковинное. Не по уставу. Не по чину. По чьему делу в град Великий Новгород пожаловали? Имя назовите и род. Чтоб ведать.
Влад почувствовал, как перстень "Лад" на его пальце излучает волну мягкого, но неодолимого тепла. Сила имени, данного богами. Сила Лада, ищущего согласия даже здесь. Он шагнул навстречу, не опуская взгляда. Голос его прозвучал чётко, спокойно, но с той властной нотой, что заставляла слушать:
– Я – Влад. – Имя прозвучало, как удар маленького, но чистого колокола. Десятник слегка отшатнулся, будто от невидимого толчка. Воздух вокруг них ощутимо дрогнул, как поверхность воды от брошенного камня. – А это – моя Лада. Мы… странники. Из земель столь далёких, что названия их вам ничего не скажут. Ищем знаний. Истинных знаний. О корнях. О сути.
Слова "истинных знаний", подкреплённые силой перстня и тихим золотым свечением оберега Насти, произвели магический эффект. Насторожённость в глазах десятника не исчезла, но сменилась глубоким замешательством, а затем – почтительным, но осторожным любопытством. Сила Влада не была агрессивной; она была успокаивающей, внушающей на глубинном, подсознательном уровне доверие к их словам, к их правоте.
– Влад… Лада… – пробормотал десятник, словно перекатывая во рту незнакомые, но звучные камни. Его взгляд метнулся к оберегу Насти, задержался на перстне Влада. – Диковинные имена,… но крепкие. Знаний ищите? Истинных? – Он помедлил, словно сверяясь с невидимыми инструкциями. – Так вам прямиком к летописцу Григорию. В келью его у церкви Спаса. Он… он чует таких, как вы. Странных. Не от мира сего. За мной ступайте. Тихо.
Они пошли за ним, минуя удивлённые, настороженные, а то и откровенно недобрые взгляды горожан. Их одежда была вызовом самому порядку вещей. Настя шла вплотную к Владу, шепча ему на ухо так тихо, что слова сливались с шелестом ее шагов:
– Летописец Григорий… Аналог нашего Нестора? Чует "не от мира сего"… Значит, он знает о разломах? О Мороке? О том, что мир не один?
– Или сам – его верный страж, – мрачно добавил Влад, сжимая кулак. Прохлада металла перстня была единственной знакомой точкой в этом чужом мире. – Осторожность, Лада. Мы в паутине. И паук знает, что мухи в ней.
Келья летописца Григория при церкви Спаса оказалась тесной норой, заваленной до потолка свитками, фолиантами в кожаных переплётах и стопками исписанной бумаги. Воздух был густым, пропитанным запахом старой пыли, высохших чернил, воска оплывших свечей и чем-то ещё – горьковатым, как полынь, и знакомым… запахом безнадёжности. Старец, сидевший за простым дубовым столом, освещённый неровным пламенем масляной лампады, был не похож на Нестора. Он был суше, костлявее. Его длинные седые волосы и борода казались седыми от пыли веков. Но глаза… Глаза горели не спокойной мудростью, а лихорадочным, исследующим огнём, как у учёного, запертого в лаборатории наедине с неразрешимой загадкой. Он поднял голову при их входе, и его взгляд мигом упал на перстень Влада и на оберег Насти. Не на их диковинные одежды – именно на артефакты. В его глазах мелькнуло не удивление, а… узнавание. И глубокая усталость.