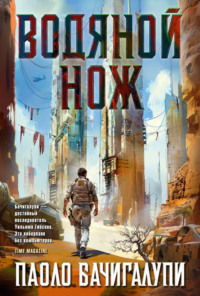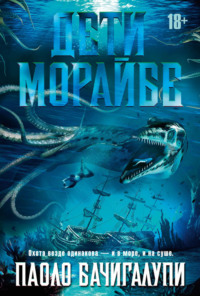Полная версия
Навола
Мерио изумленно рассмеялся. Взъерошил мне волосы.
– Мне тоже, Давико! Мне тоже! – Он вновь усмехнулся, потом стал серьезным. – Но вы должны знать, что Каззетта целиком и полностью предан вашему отцу, а верный кинжальщик стоит больше своего веса в золоте, каким бы неприятным человеком он ни был.
Я с сомнением кивнул. Мерио меня не убедил.
Каззетта выполнял таинственные поручения – зловещая фигура, являвшаяся в любое время дня и ночи, влетавшая в наш палаццо на взмыленном черном чудище по кличке Авинчус высотой семнадцать ладоней, свирепом, как ураган. Каззетта спешивался, бросал повод стражнику и отправлялся на поиски отца. Я видел, как он ворвался к отцу в баню, распугав служанок. Видел, как он возник в разгар пира в честь калларино, потный и зловонный, своим мрачным присутствием заставив умолкнуть музыку и разговоры. И где бы ни появлялся Каззетта, отец сразу же уединялся с ним. А потом стилеттоторе вновь исчезал, часто той же самой ночью, подобно дыму, уносимому теми же злыми ветрами, что и призывали.
Но когда он оставался, все было намного хуже.
Каззетта любил жестокие игры, а я был его любимой мишенью. Он заставлял меня проверять свою скорость в игре в хлопки, и мои ладони немели от его ударов. Он внезапно выныривал из теней, грозя мне стилетом, который прятал в рукаве или сапоге, либо маленькими тычковыми ножами, которые держал за высоким и жестким воротником. Словно злобная фа́та[16], он выходил из-за колонны или из темного проема, и каждый раз хватал меня и прижимал стальное лезвие к яремной вене, а потом говорил, что я ди Регулаи, а значит, должен быть всегда настороже.
Но самым ужасным был тот раз, когда Каззетта принес белого голубя в клетке. Он вручил мне клетку с голубем и сказал, что это подарок, а потом продемонстрировал золотой с красным камнем перстень лучника. Он открыл камень, и появилась крошечная игла. Каззетта просунул руку в клетку и уколол голубя, и тот мгновенно упал и забился в судорогах.
Затем Каззетта отдал мне перстень и наказал быть с ним осторожным. Подарком было кольцо. Не голубь.
Каззетта не был добрым человеком и не был хорошим, и потому я его избегал.
Теперь я уставился на другого кинжальщика, Везьо, который крался по лесу со стилетом и мешком золота.
Мерио сказал:
– Эту битву выиграли не на открытой равнине, а в лесных тенях. Не звоном мечей, а росчерком пера. Ее выиграли, потому что договорные обязательства вашей семьи были известны своей крепостью. Холодные и неизменные, как льды Чьелофриго.
Мы оба смотрели на картину. Я, маленький мальчик, пытался понять; Мерио, нумерари, быть может, размышлял о том, как быстро сосчитал бы золото, пошедшее на подкуп люпари.
– Но где же прадедушка? – наконец спросил я. – Вы обещали рассказать про Дейамо. Однако эта картина – про моего деда, Быка.
– Ну почему же. Все это – работа вашего прадеда! – Мерио шагнул назад, обводя рукой всю фреску. – Его живой ум, его незыблемые обязательства и контракты, совсем как тот, что вы копируете. Поднимите глаза. Выше, в небеса. Видите, как наш господь Амо мчит на своей огненной колеснице сквозь облака в битву за Наволу? А теперь посмотрите, кто стоит в колеснице рядом с ним, вот этот крылатый винчи[17]. Гордый нос, глубоко посаженные глаза…
– Дейамо?
Теперь, когда Мерио показал мне, я узнал деда, которого видел на других картинах. Художник уловил даже сутулость от долгих трудов за столом, хотя на этой картине Дейамо был крылатым и могущественным и метал молнию.
– Дейамо, – выдохнул Мерио. – Воистину. Бык поднимает меч и кидается в битву, а его отец швыряет огненные молнии и стоит по правую руку от Амо. Представьте себе. Бык заказал эту фреску – и поставил своего отца наравне с величайшим из богов. – На лице Мерио появилось лукавое выражение. – И могу сказать, что по этой причине Гарагаццо считает сию картину ересью.
– Правда?
Мерио подмигнул мне.
– Ну конечно! Понаблюдайте за ним в следующий раз, когда он придет. Посмотрите, как багровеет лицо нашего каноника. И все равно Дейамо здесь, потому что так хочет ваша семья. – Он присел на корточки передо мной. – Никогда не забывайте этого, Давико. Истинная сила вашей семьи происходит из нерушимой мощи ваших обязательств и крайне усердных трудов пера вашего прадеда. Это основа всего. – Он с улыбкой хлопнул меня по плечу. – А теперь бегите играть. Завтра вы скопируете контракт без единой помарки, совсем как когда-то Дейамо.
Рожденный в темной двухкомнатной квартирке в Шерстяном квартале, под грохот станков и крики торговцев, ростовщиков и карталитиджи[18], Дейамо окончил свои дни в роскошном палаццо, облаченный в шелка, в компании величайших людей города. Но хотя он умер богатым, в душе остался вианомо – и всегда заботился о людях с улицы.
Это Дейамо выделил деньги на строительство первых крытых колоннад и портиков по всему городу, чтобы дать вианомо тень в летнюю жару и укрытие в сезон дождей, – и именно он первым заплатил рабочим, чтобы те откопали и починили древнюю амонскую канализацию, проложенную под городом, дабы грязь уносило из Полотняного квартала и все люди, от благороднейших до нижайших, могли ходить по чистым, не заваленным экскрементами улицам.
Когда архиномо Наволы охватила жажда славы и каждое великое семейство требовало войны с Весуной, Дейамо высказался против. Он встал посреди Каллендры и заявил, что это глупо, и потому лишился вкладов и счетов. А когда мы все равно отправились на войну – и тысячи наших вианомо сгинули в болотах Весуны, пронзенные стрелами и погребенные в грязи, – Дейамо построил монастырский приют для осиротевших детей. Монастырь графини Амовинчи стоит по сей день, и в портретной галерее нашего палаццо Дейамо изображен сидящим на ступенях этого монастыря, в окружении всех детей, о которых он позаботился.
Дейамо наследовал Дестино по прозвищу Бык, который сыграл столь важную роль в обороне Наволы от Шеру. На портрете Дестино изображен верхом на своем боевом скакуне Неро, с тронутой проседью бородой, пылающими глазами и обнаженным клинком.
Дестино занимался монетами и железом, льном, шерстью и полотном, доспехами и оружием, пшеницей, ячменем и рисом. Он открыл постоянные филиалы в далеких городах, таких как Вильон и Бис, Хергард, Нефт и Соттодан, и он тщательно выбирал партнеров, чтобы те управляли филиалами от нашего имени. Дестино перенес Банка Регулаи из старого Полотняного квартала в новый роскошный дворец – и первым занял место в Каллендре в качестве архиномо.
Дестино был не только воином и торговцем. Он любил искусство и природу. Именно Дестино нанял гениального Арраньяло, чтобы тот спроектировал и построил великолепный Катреданто-Маджоре на Куадраццо-Амо, где теперь молились все именитые наволанцы, и именно он оплатил обустройство скульптурных садов, которые окружали город и были открыты для всех.
Наконец, был мой отец, Девоначи ди Регулаи.
Мой отец не был таким добрым, как Дейамо, и таким отважным, как Дестино, хотя обладал обоими этими качествами. Нет, он был совсем иным, почти сверхъестественным в своем интеллекте. Говорили, что он научился пользоваться счётами, когда ему не было двух, а к трем годам уже писал на амонезе ансенс[19].
Гениальный, проницательный, наблюдательный, неутомимый, несгибаемый, бесстрашный. Я слышал, как ему приписывали все эти качества – и многие другие. Я слышал это от вианомо на улице и от людей, служивших в нашем палаццо, и все говорили о нем с благоговением.
Мой отец принес наш Банк Регулаи в дальние уголки стран, где говорили на амонских диалектах, и даже дальше. Короли и принцы выпрашивали приглашение к нам на обед. Мой отец убедил Мадрасалво оставить отшельничество и завершить работу над катреданто, когда Арраньяло погиб, отравленный своим любовником-подмастерьем. Мадрасалво собственноручно расписал галереи и купола катреданто – на это ушло десять лет, и это стало лучшим из его творений.
Мой отец накормил вианомо, когда оспа Скуро убила фермеров на полях и мы лишились всего урожая; он заплатил наши деньги, чтобы огромные корабли с пшеницей прибыли в Наволу из империи Хур, и заставил судовые команды высадиться в зачумленных гаванях и накормить наших людей под угрозой лишиться всей будущей торговли. Мой отец остался в охваченном болезнью городе, когда другие архиномо сбежали, хотя «синие цветы» стоили ему жены, моей матери. Он воздвиг ей усыпальницу в Катреданто-Амо – и там она покоится по сей день.
Наше имя вплелось в костяк самой Наволы. Мои праотцы повлияли на ее архитектуру, на извилистые улочки и тенистые сады, многие из которых были названы в честь сестер, братьев, сыновей и дочерей наших предков. Улица Джанны. Улица Андретто. Сад Стефаны. На протяжении поколений мы зиждили наше имя и влияние.
К тому времени как родился я, банка мерканта и имя Регулаи стали почти синонимами. Архиномо Регулаи было известно за морем, по всему «рыболовному крючку» Лазурного полуострова, за пустынями и степями, в Зуроме, и Чате, и Ксиме. Оно преодолело ледяные пики Чьелофриго и добралось до косматых северных варваров. Наши агенты и уполномоченные предоставляли ссуды, страховали корабли и товары, шпионили за правителями, покупали рудники, продавали города – и всем этим руководил мой отец.
Но кем он был в действительности?
Я думаю, трудно постичь сущность человека. То, что видел в нем я, отличалось от того, что видел мелкий ростовщик из Шерстяного квартала, что видела его наложница Ашья, что видел калларино Наволы.
Я не могу говорить за других. Могу лишь сказать, что в моих глазах он был суровым человеком, безжалостным в своем деле и непоколебимым в обязательствах, но ко мне он был добр, и я очень его любил.
Я также могу сказать, что, несмотря на свое могущество, он не колотил людей по голове и плечам дубиной своей власти. Его заботила чужая гордость, и потому он предпочитал вежливые договоренности прямой демонстрации силы. Он владел обязательствами многих людей, но не пачкал им лица грязью со своих сапог, даже когда собирал с них клятвы. На жаргоне Наволы это называлосьсфаччо – испачкать лицо, – и мой отец не любил подобных низостей. Он был не из тех, кто занимается сфаччире без причины, даже когда его провоцировали мелочностью.
Так, например, в дни моего детства калларино часто бывал в нашем палаццо по делам города. В отличие от других городов, Наволой не правил никакой принц или король. Вместо этого у нас был калларино, которого выбирали архиномо, а также представители торговых и ремесленных гильдий: камнетесы, кирпичники, шерстяных дел мастера, ткачи, кузнецы, монахи. И конечно же, округ выбирал, кто будет представлять различные городские кварталы и живших там вианомо. Сто мужчин и – иногда – женщин управляли делами города, и это была скорее республика, чем монархия, а возглавлял ее наш калларино.
В те дни Навола была цивилизованной. Мы ничем не походили на жестокий принципат Джеваццоа, которым правили боррагезцы с их кровавой наследственной враждой и мстительными интригами. Мы были мудрее вспыльчивого королевства Шеру с его безрассудными войнами и алчным королем Андретоном. И мы были сдержаннее и культурнее страны Мераи с ее парлом, который беспокойно сидел в своем Красном городе, вечно сражаясь с бунтующими родственниками. В Наволе Сотня выбирала кандидата на высокий пост калларино, и с их помощью избранник правил городом мудро и справедливо. Борсини Амофорце Корсо, великий калларино Наволы, был избран большинством, подчинялся городу и руководствовался интересами всех граждан.
Так утверждали ученые, священники и дипломаты.
Часто единственным предупреждением о прибытии калларино являлся кашель отцовского нумерари Мерио, поскольку калларино любил появляться внезапно. Он был не из тех, кто станет терпеливо ждать или потратит свое драгоценное время на других. Мерио прочищал горло – и мгновение спустя калларино входил в библиотеку, словно владел ею, вышагивая в своих официальных красно-золотых одеяниях, надутый, будто его имя было написано на короне Амо.
А что в ответ?
Отец просто поднимал глаза от работы, приглашал калларино сесть, словно тот был долгожданным, любимым гостем, и просил Мерио принести сладкий чай и горький сыр.
Таким был мой отец. Мягким, потому что обладал властью.
И таким был калларино, не имевший власти.
А потом, в танце изящных вежливостей, калларино – не спрашивая – просил разрешения воспользоваться собственной печатью, которая лежала на отцовском столе, и мой отец – отвечая – разрешал ею воспользоваться.
Калларино мог сказать: «Генерал Сивицца говорит, что оружие стражников-люпари затупилось».
А мой отец мог ответить: «Это не делает чести наволанскому оружию. Наши верные защитники сами нуждаются в защите. Им нужно мясо для силы, острейшее и крепчайшее оружие для ремесла, а те, кто женат… те должны получить золотой нависоли в знак признательности. Генерал и его волки должны всегда чувствовать благодарность города за их труд».
И тогда, прямо здесь и прямо сейчас, калларино писал предложение архиномо Каллендры – многие из которых дали обязательства моему отцу и носили на щеках его отметки – и скреплял своей печатью, покрытой красными чернилами, олицетворением власти, которой у него не было, предлагая выделить в точности ту сумму, что назвал мой отец, и Сто имен Каллендры голосовали и соглашались, а отец и другие городские архиномо платили налоги, необходимые для обеспечения боеспособности нашей армии.
Или калларино мог сказать: «Боррагезцы отправили посла и предлагают торговать с Наволой». А отец в ответ хмурился и говорил: «Но если вдуматься, разве мы доверяем архиномо Боррага? Джеваццоа – такой уродливый город. Популо[20] Боррага – подлые люди. Они коснутся щекой твоего сапога, а потом, поднявшись, чтобы поцеловать руку, воткнут клинок тебе между ребер». И морщился, словно сделал глоток скверного вина, возможно, одного из знаменитых туманных вин Джеваццоа, кислых и полных мути.
В таком случае калларино оставлял тему и переключался на другую, зная, что не получил дозволения вести переговоры с архиномо Боррага.
Или калларино мог сказать: «Король Шеру хочет прислать двадцать ученых, чтобы переписать архивы университета и наши знания о банка мерканта, литиджи[21] и нумизматике, а в ответ готов поделиться своими текстами по архитектуре и амонезе ансенс».
А отец отвечал: «Наука несет свет всем королевствам, куда приходит, но еще больше она озаряет тех, кто ее приносит. Пусть ученые Шеру приезжают, и люпари обеспечат им безопасное путешествие, но сперва пусть сын Андретона приедет к нам и поклянется на моем драконьем глазе, что никогда больше Шеру не станет нападать на наших добрых соседей в Парди».
Все это я видел, а позже Мерио тихо объяснял мне, что после того, как мой дед заставил люпари дезертировать во время войны с Шеру, они стали военной силой Наволы – только нашими солдатами, – и мы хорошо платили им за защиту своих интересов. Однако в душе они остались наемниками. Они перешли к нам, потому что мы платили лучше всех. Но что, если появится другое предложение? Что, если им захочется вновь сменить сторону? Что тогда?
Архиномо Наволы платили щедро – и привлекали все лучшее в землях Амо. Однако наемники ценились втройне, если брали наволанских жен и рождали городу новых волчат. Тогда их привязывали к Наволе не только солнца и луны наших монет, но и кровь. Вот почему мой отец раздавал солнца Наволы, нависоли, наше золото, тем, кто заводил семью. Он хотел привязать Компаньи Милити Люпари к городу, сделать так, чтобы выживание волков зависело от Наволы. Таким образом он побуждал солдат сражаться не только за деньги, но и за будущее их имен и детей, побуждал их самих стать наволанцами.
Такова была мудрость моего отца.
– Но зачем принцу Шеру приезжать и клясться на драконьем глазе? – спросил я.
Мерио пошевелил бровями.
– Давая клятву на глазе дракуса, ты привязываешься к нему, и он сожжет тебя дотла, если ее нарушишь. Дракон видит твою душу насквозь.
– Правда?
Я был восхищен и очень напуган. Почти так же, как в присутствии Каззетты.
Мерио взъерошил мне волосы и рассмеялся.
– Ох, Давико, вы слишком доверчивы. И как нам учить вас, юный господин, чтобы не было всегда так открыто ваше лицо? – Он вздохнул. – Нет, он не сожжет вас дотла, и нет, он не видит вашу душу насквозь. Но все равно очень страшно касаться того, что было больше любого человека, и, когда даешь клятву на таком артефакте, чувствуешь ее своими костями… – Он вздрогнул. – Чувствуешь глубоко. Символ и ритуал – такие же составляющие человеческого обязательства, как и деньги, как и залог в виде шерсти, как и то, есть ли на твоей щеке след чужого сапога. Когда человек прикасается к драконьему глазу, ваш отец наблюдает за ним, следит, как он вздрагивает, ждет, не замешкается ли он. То есть слегка заглядывает к нему в душу. – Мерио с серьезным видом коснулся уголка собственного глаза. – Видит не дракон, Давико. Видит ваш отец.
Это произвело на меня очень большое впечатление.
Умы наволанцев изворотливы, как косы в прическах их женщин.
Поговорка, записанная Марселем Виллу из БисаГлава 3
– Я хочу получить его голову! Я хочу, чтобы этого ссыкуна разорвали на куски, а его голова торчала на пике перед Каллендрой! – прогремел калларино, врываясь в отцовскую библиотеку.
Я вырос пусть и не высоким, но достаточно, чтобы сидеть за столом, не вставая на колени, и из наставнических рук Мерио перешел в руки своего отца. Теперь мне часто полагалось сидеть рядом, когда он работал в библиотеке, – сидеть парлобанко, как у нас говорили.
Это было старое слово, парлобанко, из тех времен, когда любые переговоры люди вели, сидя друг против друга за грубой доской, заставленной блюдами с сырами и ломтиками доброй солонины и чашками горячего сладкого чая. При необходимости могла сгодиться любая доска – или даже бревно, или, если на то пошло, трехногий табурет. Пока переговорщиков разделяли дерево и пища, все было правильно в глазах Леггуса.
Когда в библиотеку ворвался калларино, я изучал корреспонденцию, которую вручил мне отец, чтобы я мог обсудить ее с ним, посмотреть, как работает его ум, и лучше понять, как он формирует нашу торговлю. Я наслаждался чужими письмами, наслаждался уютным потрескиванием огня в камине, наслаждался тихим сопением Ленивки у моих ног и теплым обществом отца, в то время как ледяной зимний дождь барабанил в окна. Проделавшие долгий путь письма намокли и чернила смазались, но вокруг царил уют, пока двери библиотеки не распахнулись, впуская холодный, влажный ветер и кипящий гнев калларино.
– Я хочу, чтобы собаки сожрали его кишки на глазах у его дружков-писсиолетто!
Я подавил желание нырнуть под отцовский стол, где с внезапным проворством уже скрылась Ленивка. Эта попытка спрятаться была весьма комичной, поскольку с годами собака заметно выросла и теперь ее длинные ноги и поджарое туловище торчали из-под стола со всех сторон. Она больше не была маленьким щенком.
Калларино швырнул Мерио зимний плащ и направился прямиком к огню. Мерио негодующе вскинул брови из-за столь бесцеремонного использования его тела в качестве вешалки, но отец сделал умиротворяющий жест и взмахом руки велел Мерио уйти и забрать с собой насквозь промокший плащ калларино. Я воспринял это как сигнал, что мне тоже следует удалиться, но, когда начал вставать, отец положил ладонь на мою руку, и по его взгляду я понял, что нужно остаться и послушать.
– Борсини, – сказал отец, – полно вам. Как я понимаю, кто-то мешает вашей работе?
Не догадываясь о том, что происходило за его спиной, калларино протянул руки к огню и стал растирать пальцы.
– Сегодня у Ла Черулеи ледяное дыхание. Она вселила холод в мои кости.
Отец подмигнул мне.
– Ваша кровь недостаточно горяча, чтобы вас согреть?
Калларино повернулся спиной к камину и скорчил гримасу:
– Вы любите шутить. Однако вам не следует улыбаться, когда Томас ди Балкоси преподносит вам тарелку дерьма.
– Балкоси? Неужели?
– Вы мне не верите?
– У вас так много врагов, что я в них путаюсь.
– Рад, что вам весело. – Калларино вновь повернулся к огню. – Этот человек – аспид в моей постели. – Он смотрел на пламя, и лицо было оранжевым, как морда одного из демонов Скуро. – Я позабочусь о том, чтобы его разорвали на Куадраццо-Амо, и это станет уроком всем его дружкам из номо нобили ансенс.
– У вас нет более изящных вариантов?
– Я не могу сжечь его заживо: в это время года древесина слишком мокрая. Нет, придется отрубить ему голову. Кровь зальет все камни куадраццо, его жена будет рыдать, а дочери – молить о пощаде.
Согретый этой воображаемой местью, калларино подошел и плюхнулся в кресло напротив отца. Окинул взглядом библиотеку.
– Где этот ваш нумерари? Который с сырами.
– Вы отдали ему свой плащ.
– Правда? Он принесет чай?
– Уверен, что он известил кухню о вашем прибытии, – сухо сказал отец.
– Вы могли бы одолжить мне Каззетту, – заявил калларино.
– Чтобы он принес вам чай?
– Хватит со мной шутить. Вы сказали, что хотите чего-то более изящного. Каззетта мог бы незаметней всех разобраться с Балкоси. Стилет. В переулке. Капля серпииксиса в бокале…
Отец кинул на калларино резкий взгляд.
– Скверная смерть. Кровавая рвота едва ли будет незаметной. – Он поднял руку, останавливая калларино. – В любом случае сейчас Каззетты здесь нет. Он выполняет поручения далеко отсюда.
Калларино сжал губы, разочарованный тем, что не сможет привлечь недоброе внимание Каззетты к Балкоси. Вновь оглядел библиотеку.
– Этот ваш нумерари принесет к чаю сыр?
– Мерио прекрасно знает ваши вкусы. Он всегда заботится о деталях.
– Ему следовало стать поваром, а не нумерари. Кто слышал про нумерари-пардийца? Нумерари должен быть наволанцем. Жители Парди едва могут сосчитать собственных овец.
– Мерио очень хорошо справляется со своей работой.
– Я бы никогда не нанял пардийца. Это все равно что доверить боррагезцу охрану твоей спины. – Взгляд калларино упал на меня, сидящего рядом с отцом. – О! Давико! Я тебя не узнал. Принял за скривери. Ты так вырос!
– Да благословит вас Амо, патро Корсо.
Это было формальное приветствие, которое, по словам наложницы отца Ашьи, следовало использовать в беседе с важными людьми, но калларино отмахнулся.
– Патро? Ты зовешь меня патро, как незнакомца? Чи. Со мной тебе не нужны формальности. Зови меня дядей. Или сио. Или стариком Борсини – и покончим с этим. Мы почти семья. Нам ни к чему формальности.
Загнанный в угол, я покосился на отца, но не получил никаких указаний, а потому почтительно склонил голову и решил придерживаться наставлений Ашьи.
– Да, патро. Спасибо, патро.
Улыбка калларино стала шире.
– Ай! Ты хороший мальчик. – Он протянул руку и взъерошил мне волосы. – Хороший, воспитанный мальчик. И вырос, как трава, с нашей последней встречи. – Он более внимательно оглядел меня. – И с каждым днем все больше напоминаешь отца. – Калларино подмигнул отцу. – Всегда приятно видеть подтверждение того, что это твой отпрыск, вери э веро?[22] – Он откинулся в кресле. – Я велел слугам день и ночь следить за моей новой женой. Пока она не забеременеет, глаз с нее не спущу.
– Уверен, что ваша жена рада вашему вниманию.
– Рада или нет, я не дам наставить себе рога, как случилось с тем клоуном Паццьяно. – Калларино нахмурился. – По крайней мере, не в этот раз.
– Вам лучше знать.
Я плохо улавливал смысл беседы, но чувствовал, что речь шла о чем-то неприятном. И подобно собаке, которая не понимает человеческую речь, ощущал напряжение в воздухе.
Несмотря на свою невежественность в отношениях мужчин и женщин, я действительно вырос, пусть и не так значительно, как утверждал калларино. Прожив почти двенадцать лет в свете Амо, я уже не был крошечным мальчонкой, которому приходилось вставать коленями на стул, чтобы увидеть поверхность стола.
– Что тебе дал отец? – спросил калларино.
– Письма из Гекката, – ответил отец за меня. – Там новый военный диктатор.
– Там всегда новый диктатор. Они убьют его так же, как боррагезцы убивают своих друзей. Новый диктатор, новый бог, новый приток рабов для ужасной торговли и семейного состояния Фурий. – Он посмотрел на меня, вскинув бровь. – Итак? Какие новости из Гекката, юный Давико?
Отец подбадривающе кивнул, и я ответил:
– Диктатор не любит кошек. Он не принимает ванны и не любит кошек.
– Кошки и ванны! – Калларино расхохотался. – Я всегда знал, что ваша империя построена на странном знании, Девоначи. Но кошки и ванны – это что-то новенькое. Получится хорошая песня для пьесы. «Кошки и ванны». «Гатти э баньи». Отлично сочетается с «Терци абакасси, сенци гаттименси». Можно заказать ее у маэстро Дзуццо.
Отец не улыбнулся в ответ.
– Расскажи остальное, Давико. Что ты узнал?