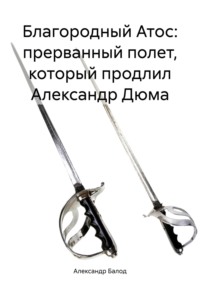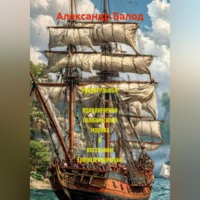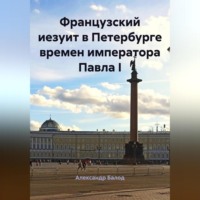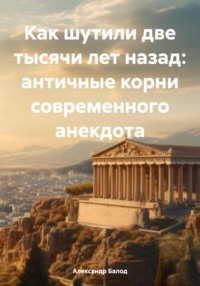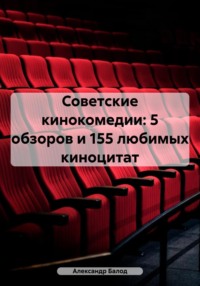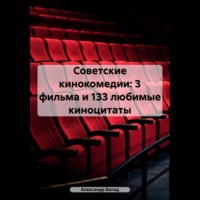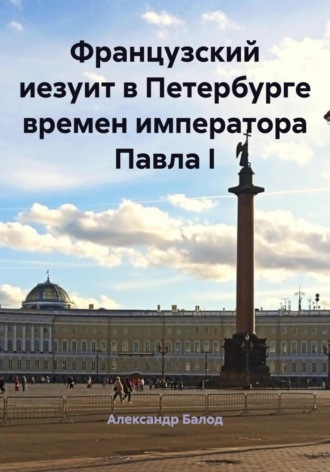
Полная версия
Петербург времен Павла I глазами французского иезуита
Дорога, ведущая от Царского Села к столице российского государства, явно не относилась к числу двух пресловутых российских бед: аббат называет ее превосходной, в особенности же ему понравились «мраморные пирамиды, служащие для обозначения верст».
Верстовые столбы, или верстовые пирамиды из мрамора, созданные по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди, были установлены на трассе по приказу императрицы Екатерины Великой. Высота этих «пирамид» составляла 6 м 40 см, их ставили на расстоянии одной версты друг от друга; всего на Царскосельской дороге был установлен 21 верстовой столб. Первый верстовой знак был установлен на углу Московского проспекта и набережной Фонтанки, последний – на краю Екатерининского парка, около Орловских ворот (тогдашняя путевая верста равнялась 500 саженям, или 1,0668 км).
По счастью, русский мороз свирепствовал не настолько, чтобы отбить у гостей тягу к познанию, и они (во всяком случае, автор записок) внимательно глядели по сторонам. Справа от дороги, по которой они ехали, тянулся ряд загородных домов, которые показались путешественникам «воистину царскими жилищами среди сельской обстановки».
Впоследствии они узнали, что дома эти принадлежали русским вельможам (что называется, кто бы сомневался!), которые:
«В местности, где могут расти только ель, береза и ветла, развели чудные сады и устроили очаровательные жилища… По той роскоши, какая господствует в них, их можно сравнить с королевскими дворцами, и они составляют преддверие, достойное императорской столицы», – пишет Жоржель.
За преддверием обычно следует дверь, и в два часа пополудни аббат и его спутники подъехали к петербургской заставе, которая, согласно его описанию, имела вид триумфальных ворот. Близ заставы находилась гауптвахта, в которую должен был заходить каждый приезжающий в Петербург и выезжающий из него, чтобы объявить свою фамилию и сказать, откуда или куда он едет.
Из энциклопедического справочника «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград» можно узнать, что заставами в то время назывались контрольные (и, разумеется, пропускные) пункты, учреждённые в начале XVIII века на всех главных дорогах при въезде в столицу. На заставах осуществлялась проверка грузов, багажа и документов пассажиров, там имелись специальные регистрационные книги, в которые записывали имена всех покидавших город или въезжавших в него.
Сколько всего застав было в городе? Судя по всему, Московская и Нарвская заставы были главными или, во всяком случае, наиболее оживленными, однако существовали и другие пункты въезда/выезда из столицы. В изданном в 1822 году «Указателе жилищ и зданий в Санкт-Петербурге» перечисляется семь застав:
Нарвская, по Петергофской дороге.
Московская, по Царскосельской дороге.
Волковская, за Ямской.
Шлиссельбургская, у Александроневской Лавры.
Батарейная и Выборгская на Выборгской стороне.
Костыльская, в Галерной гавани.
Рядом с заставой в особых зданиях (гауптвахтах) находились воинские караулы, а сами дороги были перегорожены шлагбаумами и рогатками (граница на замке!). Шлагбаумы и рогатки были упразднены лишь десятилетия спустя, в 1858 году, когда наступила эпоха тогдашней перестройки. Впрочем, событие это было связано, надо полагать, не столько с общей либерализацией порядков, а с тем, что практическая надобность в подобного рода сооружениях исчезла.
Мы привыкли считать, что гауптвахта – место для содержания проштрафившихся военнослужащих, но в ту далекую эпоху это слово употреблялось в своем изначальном значении – «главный караул», или, в более приземленном смысле, караульный дом – помещение, предназначенное для размещения воинской команды.
Новоприбывших пригласили выйти из кареты, предъявить документы (то есть паспорта), предоставить информацию о целях своего прибытия и указать место, где они собираются остановиться. Начальник караула не знал иностранных языков, поэтому в роли переводчика выступал более молодой офицер, отвечавший за канцелярию и неплохо знавший французский. Аббату и депутатам было задано множество вопросов относительно цели их поездки; переговоры, больше похожие на допрос (а возможно, и бывшие таковым), тянулись добрых полчаса. Наконец, их отпустили, заявив, что завтра они должны явиться к коменданту города, которому будут отправлены их паспорта.
Судя по тому, что посольство двигалось из Царского села – логично предположить, по Царскосельской дороге (т.е. в пределах города – по современному Московскому проспекту), речь шла о Московской заставе. Где именно находился этот КПП?
"До открытия сих ворот Московская застава находилась у моста, ведущего чрез Новообводный канал (одно из названий Обводного канала, о котором речь пойдет дальше) близ скотопригонного двора", – можно прочесть в путеводителе "Весь Петербург в кармане. Справочная книга для столичных жителей и приезжих" А. Греча, изданном в 1851 году. Заметим, что скотопригонный двор, здание которого признано теперь памятником архитектуры, появился на этом месте четверть века спустя после вояжа мальтийских рыцарей.
А вот сведения, которые можно почерпнуть в исторической справке официального сайта Администрации Санкт-Петербурга:
Московская застава – одна из городских застав Петербурга, созданных в XVIII веке, здесь при пересечении Царской перспективы с Лиговским каналом начинался собственно Московский тракт – дорога на Москву. Тут находились шлагбаум, или, как тогда говорили, рогатка, и сторожевая будка с караульными. Здесь у проезжавших проверяли подорожные и взимали сборы. Вторая, или средняя, рогатка находилась там, где теперь площадь Победы, а третья Дальняя, возле мельничной плотины у подножия Пулковской горы.
Таким образом, главная застава (она же – "ближняя рогатка") находилась на отдалении полутора км от Московских триумфальных ворот, при том, что самих ворот как таковых еще не было, – монумент, созданный по проекту архитектора Василия Стасова в ознаменование побед русского оружия был открыт без малого сорок лет спустя, в 1838 году. Почему же тогда аббат заговорил о триумфальных воротах? Быть может, он обладал неким даром предвидения и посредством "внутреннего зрения" уже представлял, какой вид эта площадь обретет в будущем?
Разумеется, не исключено что аббат, человек преклонных лет, мог запутаться в канве своего повествования, и поместить увиденный им где-то и когда-то памятник в то место, где он никак не мог находиться, во всяком случае, в данный конкретный момент времени. Отметим, что в своих описаниях локаций, сооружений и ландшафтов Жоржель в целом был достаточно точен, хотя в его записках и встречаются ошибки, свидетельствующие о том, что географический глобус порой выскальзывал из ослабевших рук уроженца Эльзаса.
Наиболее забавным из такого рода случаев является описание им маршрута поездки дружного мальтийского коллектива в окрестностях Нарвы:
По прибытии в Нарву мы некоторое время ехали берегом Ладожского озера
Географическими ляпсусами подобного рода изобиловали рассказы заезжих гостей эпохи Ивана Грозного, но два с лишним века спустя Россия, во всяком случае ее европейская часть, уже перестала быть для иностранцев Terra Incognita, и любой толковый учитель географии был в курсе того факта, что Ладожское озеро находится на значительном удалении от Нарвы, а поэтому маршрут из Эстляндии в Санкт-Петербург, проходящий вблизм его берегов, с точки зрения логистики не просто неудобен, а маловероятен.
Что самое удивительное, француз приводит не лишенные интереса подробности совершенного им удивительного и необыкновенного путешествия вдоль Ладоги.
"Вблизи этого озера, изобилующего рыбою, находится очень многолюдное русское село огромных размеров (в этом просматривается определенная логика: огромное озеро – огромное село): там насчитывают от трех до четырех тысяч душ, – все обитатели его рыбаки. Мы ночевали на постоялом дворе, где всю ночь сменяли друг друга ватаги рыбаков, пивших водку и пиво. Наш сон на соломе часто пррывали их пьяные крики".
Размеры села сами по себе вызывают сомнения (тем более, что рассказчик ничего не говорит ни о его названии, ни о конкретном местоположении), но не менее странными выглядят массовые рыбацкие попойки, как будто заимствованные из "Гамбринуса" Куприна. Вообще-то зимой Ладожское озеро (если предположить, что это и правда было оно) замерзает, так что едва ли рыбаки имели повод отмечать в таверне хороший улов.; и даже если предположить, что в многолюдном селе было принято устраивать регулярные массовые гулянки не только в разгар сезона, но и в период межсезонья, остается вопрос, откуда у не слишком богатых русских селян взялись деньги на такого рода пиршества.
Быть может, аббат имел ввиду Чудское озеро, тоже богатое рыбой и занимающее в пятерке крупнейших внутренних водоемов Европы почетное пятое место? Но от него до Нарвы почти 300 км, не говоря уже о том, что оно тоже имеет обыкновение замерзать в конце ноября – начале декабря (знаменитое Ледовое побоище происходило, впрочем, не зимой, а весной, в начале апреля 1242 года).
Может создаться впечатление, что едва очутившись в пределах Российской империи, аббат, подобно герою романа-фэнтези, погрузился в некую альтернативную реальность, как будто сошедшую со страниц произведений знаменитого барона Мюнхгаузена (тоже побывавшего в России, только несколькими десятилетиями раньше). Замечу, впрочем, что этот случай является пусть не единичным, но нехарактерным для записок аббата, в целом вполне достоверных и правдивых.
Тем не менее, помимо капризов глобуса и деменции, существует еще одна версия появления возле петербургской гауптвахты триумфальных ворот, – как мне кажется, достаточно правдоподобная или, во всяком случае, достойная того, чтобы рассматривать ее в числе других, альтернативных вариантов интерпретации слов аббата.
Глава 3. Тайна двух застав
"Как я ни старалась вообразить себе великолепие Петербурга, я была совершенно очарована его зданиями, красивыми палатами, широкими улицами, из которых одна, называемая проспектом, тянется на протяжении целого лье. Красавица Нева, светлая, прозрачная, протекает через город и вся покрыта различными судами, которые беспрерывно приходят и уходят, и тем удивительно оживляют этот красивый город" – Мемуары Мари Элизабет Виже-Лебрён
"Для этого торжественного въезда были сделаны четверо триумфальных ворот"-
Н. Э. Гейнце "Дочь Великого Петра"
"Говорят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно" – М.Ю. Лермонтов "Княгиня Лиговская".
Аббат Жоржель и другие участники депутации Великих Приорств Мальтийского ордена в Германии и Богемии, направленной к российскому императору Павлу I, в декабре 1799 года подъехали к петербургской заставе, которая, по словам рассказчика, имела вид триумфальных ворот. Между тем известно, что подобные ворота были воздвигнуты на этом участке Царскосельского (Московского) проспекта лишь четыре десятка лет спустя.
Что, если сама застава внешне действительно напоминала то, что на французском языке звучно именуется arc de triomphe? Однако контрольно-пропускной пункт – объект сугубо фукциональный, и в силу этого не предусматривающий каких-либо заметных архитектурных излишеств, способствующих росту затрат на возведение объекта. И если даже предположить, что такие излишества почему-то были допущены в самом процессе строительства, то наверняка они обратили бы на себя внимание не только французского аббата, но и других наблюдателей, проезжавших через заставу, либо живущих неподалеку; тем не менее, найти сведения об этом я не смог (быть может, плохо искал?).
Загадки для того и существуют, чтобы попытаться их разгадать, и я провел небольшое расследование, итоги которого удивили меня самого. Путь от Царского села в Санкт-Петербург действительно проходит по Царскосельской дороге и упирается в Московскую заставу, возле которой тогда еще не стояло никаких ворот, хоть сколько-нибудь напоминающих триумфальные. Но кто сказал, что путники и в самом деле ехали именно по этой дороге?
То есть сказал об этом, конечно же, сам рассказчик, почтенный аббат Жоржель, который упомянул о короткой стоянке делегации в Царском селе. Но что, если он в очередной раз заплутал в русской топонимике (предположение, не кажущееся таким уж невероятным, учитывая виртуальный маршрут его путешествия от Нарвы к Петербургу вдоль берега Ладожского озера) и путешественники добирались до Петербурга каким-то иным путем? На сакраментальный вопрос «какие ваши аргументы?» у автора имеется наготове следующий ответ.
Вояж мальтийских кавалеров стартовал из Прибалтики, и, стало быть, логично предположить, что они ехали не абы где и как, а по Нарвскому тракту, завершающим участком которого являлась Петергофская дорога, на которой расположены такие пригороды столицы, как Ораниенбаум, Петергоф и Стрельна. Аббат Жоржель рассказывал об увиденных им вдоль дороги загородных домах, которые показались путешественникам «воистину царскими жилищами среди сельской обстановки», и само это описание гораздо больше напоминает не Царскосельский тракт, а дорогу на Петергоф, поскольку, как справедливо отмечают знатоки "Петергофская дорога представляет собой уникальную ландшафтно-архитектурную систему императорских резиденций, частных усадеб, садов и парков, сочетание построек разных стилей и эпох".
Именно этим путем направлялись в Петербург многие европейские гости нашей страны, в том числе и соотечественники Жоржеля, французы. Граф де Сегюр, автор знаменитых записок о пребывании в России в царствование Екатерины II, описывает это место следующим образом:
"Дорога от Петергофа в Петербург чрезвычайно живописна. Она идет между красивыми дачами и прекрасными садами, где петербургское общество ежегодно проводит короткое лето и в несколько теплых дней забывает о жестокости сурового климата, наслаждаясь постоянною зеленью дерев и лугов, которая на болотистой почве поддерживается до первого снега".
Госпожа Виже-Лебрен, французская художница, пожаловала в столицу Российской империи летом 1795 года, ее тоже везли по Петергофской дороге.
"По дороге уже, – пишет мадам Лебрен, – можно было составить себе выгодное понятие и о самом городе, потому что по обеим ее сторонам тянулись ряды прелестных дач, окруженных самыми затейливыми садами в английском вкусе. Чтобы разбить эти сады, владельцы дач воспользовались землею весьма болотистою, осушили ее, прорыв каналы, и перекинули чрез них мостики, а также украсили сады беседками".
Можно задать вопрос, почему же тогда аббат рассказал нам так мало о красотах окрестностей Петербурга и, в частности, не упомянул про Большой Петергофский дворец и знаменитые фонтаны? Однако не будем забывать, что дело происходило в декабре, когда фонтаны, как и весь окружающий ландшафт, пребывали в зимней спячке; но еще более вероятным является предположение, что в силу особеностей маршрута поездки путники оставили «русский Версаль» в стороне.
Логистика былых времен, равно как историческая топонимика – предмет на редкость сложный и запутанный. Наиболее удобной сухопутной артерией, соединявшей Прибалтику с Петербургом, была старая Нарвская дорога (она же Рижская проезжая дорога, а позднее – Нарвский тракт), участок которой на подъезде к Петербургу с середины XIX века именуется Красносельским шоссе. Шоссе это пересекается с Петергофской дорогой (которая, логично предположить, ведет как раз в Петергоф) восточнее Петергофа и Стрельны, и, стало быть, если для гостей города не была организована специальная экскурсионная поездка, они были лишены возможности увидеть все эти исторические места.
Вы спросите, как же обстоит дело с упомянутыми уроженцем Эльзаса верстовыми пирамидами, установленными на Царскосельской дороге? Вся штука в том, что подобные столбы-пирамиды были установлены и на Петергофской дороге, причем если на трассе из Царского села в столицу имелся 21 верстовой столб, то на Петергофской дороге их было аж 27.
Но почему же все-таки автор воспоминаний говорит о Царском селе (сейчас – Пушкин), через которое они проезжали – городке, лежащем в стороне от Нарвской дороги? Рискну предложить две версии, ни одна из которых не является на сто процентов убедительной.
Во-первых, не стоит исключать того, что аббат действительно заплутал в пригородах Санкт-Петербурга, что иногда происходит и с нынешними гостями (а подчас и хозяевами) города, несмотря на существование всевозможных справочников, карт и навигаторов, и спутал Царское село с каким-либо еще местом. Или, быть может, имел в виду именно его, но при этом ошибся не столько в пространстве, сколько во времени, то есть последовательности событий, и действительно посещал этот городок, но уже гораздо позднее.
Однако не исключен и следующий вариант: зарубежные гости действительно по каким-то особенным обстоятельствам ехали через Царское село, лежащее в стороне от Нарвского тракта. Но потом вдруг решили (то есть за них, скорее всего, решил кучер) не двигаться дальше по Царскосельскому тракту, а выбрали боковую дорогу и уже по ней выехали на Нарвскую дорогу и Петергофское шоссе.
Косвенно эту версию подтверждают такие слова аббата:
"Снег валил хлопьями, но так как по этой дороге много ездят, то мы нашли проторенный путь. Наши ямщики оставили почтовый тракт и поехали другой дорогой, четырьмя-пятью верстами короче". Впрочем, сказаны они были, если верить автору, в тот момент, когда посольство еще только прибыло в Царское село, и поэтому скорее запутывают, чем проясняют вопрос.
Проезжая сначала по Нарвской, а потом и по Петергофской дороге, путники рано или поздно упирались в петербургскую заставу, но не Московскую, а Нарвскую. Как же выглядела эта застава? В том-то все и дело, что именно в те годы, в точном соответствии с описанием Жоржеля, поблизости от этой заставы находились Триумфальные ворота, которые, если судить по картине, где они были изображены, сами были частью пограничного поста, поскольку гостям дозволялось проезжать через них, лишь когда был открыт шлагбаум.
Разумеется, речь не идет о Нарвских триумфальных воротах, которые тоже были сооружены как минимум на три десятилетия позднее, причем на некотором отдалении от места, где находилась сама застава. Старые триумфальные ворота (именно их, судя по всему, лицезрел аббат) были воздвигнуты в 70−80 годах XVIII века (архитекторы – А. Ринальди и Деденев М. А) и носили название Лифляндских ворот (запечатленных на одноименной картине художника Карла Фридриха Кнаппа, о которой мы уже упоминали).
Приведу цитату из труда историка (пожалуй, даже целых двух), в которой описываются подробности создания этих ворот:
9 января 1766 г. комиссия по устройству городов С.-Петербурга и Москвы предполагала устроить у Нарвского въезда особую площадь, а в 1773 г. императрица Екатерина II на этой площади решила устроить по проекту Кваренги триумфальные ворота. (Прим.: явная ошибка – Кваренги приехал в Россию в 1779 г.) Строиться эти ворота стали с 1774 года, причем постройкою руководил действительный тайный советник, сенатор и кавалер Михаил Александрович Деденев, а надзирал за архитектора Лейм. Постройка ворот затянулась – 14 августа 1779 года появилось распоряжение: «потребную на окончание каменных ворот в Лифляндском здешней столице предместье на сумму 4121 р. 26 к. повелеваем отпустить из кабинета», но и этой суммы недостало – 23 октября 1780 года на имя Адама Васильевича Олсуфьева последовало другое распоряжение: «на окончание ворот здешних от Лифляндской дороги прикажите отпустить действительному тайному советнику Деденеву 5024 р. 93 к.», но и отпущенные дважды 9146 р. 19 к. пришлось в том же году увеличить еще на 3188 р.68 ¼ к. – точность, как видим вполне поразительная до ¼ к., и следовательно, только на окончание ворот истрачено 12334 з. 87 ¼ к., сумма по тому времени большая, сколько же прошло на самое строение ворот – нам, к сожалению, не удалось установить. Ворота в первоначальном своем виде простояли до 1834 года, когда они были перестроены по проекту Стасова. (Прим.: опять ошибка, автор перепутал Лифляндские ворота с первоначальным вариантом Нарвских ворот, построенных по проекту Кваренги в 1814 г. существенно южнее) Столпянский П. Н. Петергофская першпектива (1923) / В сб.: Петергофская дорога и музыкальный Петербург.
Я говорил о двух историках, поскольку информация первого, писавшего раньше, в этой пространной цитате сопровождается комментариями второго, писавшего уже в наше время, который внес в первоначальный текст существенные уточнения и коррективы. Суммы, затраченные на возведение памятника, кажутся нам сегодня смехотворными (речь идет всего лишь о нескольких десятках тысяч рублей), но не будем забывать, что современный рубль и царский рубль 250-летней давности – материи несоизмеримые. Впрочем, некоторые вещи и сейчас остались такими же, как и были раньше: как выясняется, в процессе строительства объекта затраты постоянно возрастали, причем иногда в разы.
Как выглядели ворота, через которые, как мы предполагаем, въезжала в Петербург депутация мальтийских рыцарей? Читаем книгу И.Г. Георги " Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга. 1794г.":
«Градские ворота по Рижской проезжей дороге и у выгонного рва окончены в 1784 году и во всей столице только одни. Они построены все из дикого (!) камня с гладкими стенками, коих карнизы поддерживаются с загородной стороны четырью половинчатыми круглыми, а с городской – четырью же плоскими столбами. На каждом углу стоит большой мраморный ваз, а над подъездом с западной стороны российский орел из белого мрамора».
Скандально известный журналист и писатель, недруг Пушкина, Фаддей Булгарин описывал Лифляндские ворота с меньшим количеством деталей, но с большей выразительностью, которая свойственна литераторам всех времен и народов, не исключая и прдажных представителей это уважаемой профессии:
Триумфальные ворота служат доказательством, что соразмерность частей и целого есть первое основание не только архитектуры, но и всякого искусства. Простая кубическая масса гранита, воздвигнутая со вкусом, представляет здание величественное и прелестное. Ворота сии замечательны также тем, что они сооружены первые в столице.
Впрочем, служившее примером «соразмерности частей и целого» сооружение простояло не очень долго, и когда началось строительство Нарвских ворот, было демонтировано.
Вот что пишет в своей книге «Исторические районы Петербурга от А до Я» знаток истории города С. Е. Глезеров:
Сначала она (Нарвская Застава) помещалась на Фонтанке у Калинкина моста, а затем ее перенесли за Обводный канал, где были построены городские ворота. Появившиеся в 1814 г. Нарвские триумфальные ворота были построены еще дальше – между современной площадью Стачек и Обводным каналом (поставим тут знак вопроса). А нынешние Нарвские ворота заняли свое место в начале 1830-х гг. В XVIII веке за Нарвской заставой начиналась аристократическая Петергофская дорога, напоминавшая, по словам современников, «прелестный переезд от Парижа до Версаля».
Нарвская застава дала название целому району Санкт-Петербурга, упомянутому в строках песни «Тучи над городом встали», впервые прозвучавшей в киноленте «Человек с ружьем»:
Тучи над городом встали,В воздухе пахнет грозой.За далекою Нарвской заставойПарень идет молодойОбратим внимание на то, что Нарвская застава в песне названа "далекой" и, стало быть, этот район считался окраинным еще в первой половине XX века.
Глава 4. Граница на замке: стена и ров, которые защищали Санкт-Петербург
"В моем окне на весь квартал Обводный царствует канал" – Николай Заболоцкий " Обводной канал"
Одновременно с городскими воротами был построен гранитный однопролетный мост. Он был переброшен через городовой ров – будущий Обводный канал». – С. Б.
Горбатенко «Петергофская дорога»
"Начали очищать ров, окружающий город, а вал обносить рогатками".
Пушкин А. С., История Пугачёва, 1834
Как рассказывает автор записок, делегация мальтийских рыцарей въехала в Санкт-Петербург через заставу, которая была построена в форме триумфальных ворот. Согласно нашей версии, это были Лифляндские ворота, ныне утраченные. Нарвские же, как и Московские триумфальные ворота, были построены лишь десятилетия спустя. Но путаница усугубляется еще и тем, что в районе Нарвской заставы некогда существовали и другие триумфальные ворота, не дошедшие до нашего времени.
«В краеведческой литературе Лифляндские (Екатерингофские) ворота часто смешивают с Триумфальными воротами, построенными по проекту Джакомо Кваренги в 1814 г., – пишет историк Л. Жбанова в статье "Из истории Петербурга: Лифляндские ворота". – Деревянное сооружение было возведено всего за месяц по случаю возвращения победоносных русских войск из заграничного похода в столицу спустя 28 месяцев отсутствия. Ворота были временными и возведены за старой городской чертой, проходившей у Обводного канала. Строение быстро обветшало и впоследствии было заменено каменными воротами, сооруженными по проекту Василия Петровича Стасова за Нарвской заставой»