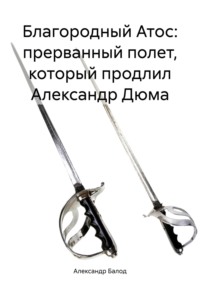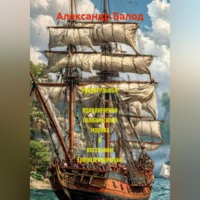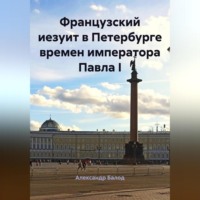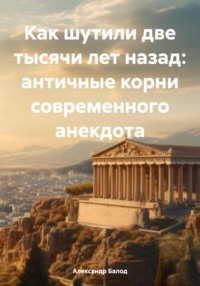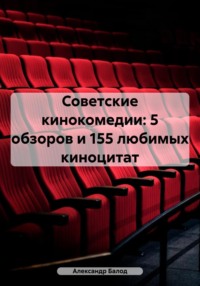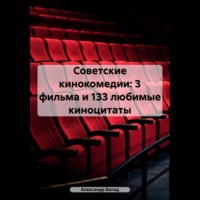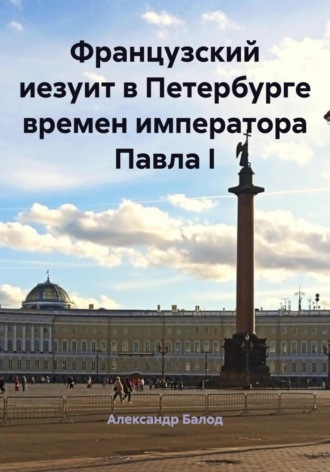
Полная версия
Петербург времен Павла I глазами французского иезуита

Александр Балод
Петербург времен Павла I глазами французского иезуита
Глава 1. Аббат Жоржель и ожерелье королевы
"Я буду писать одну правду, я расскажу то, что я видел, и так как я видел; моя главная цаль – дать ясное представление тем, кто живя очень далеко от России, желает иметь точные сведения о городе, ставшем одним из первых в Европе, и о дворе, влияние которого на дела континента является ныне решающим" – Жан-Франсуа Жоржель "Путешествие в Санкт-Петербург в 1799-1800 гг"
"Надобно отдать аббату справедливость в том отношении, что, не смотря на особенные условия своего личного положения, он (аббат Жоржель) беспристрастен в своих рассказах о России, за исключением разве той их части, которая касается религии" – комментарий к "Путешествию в Санкт-Петербург в 1799-1800 гг." Жана-Франсуа Жоржеля
"Королева утверждает, что у нее нет ожерелья; ювелиры уверяют, что продали его королеве; ожерелье исчезло, и слово «кража» произносится во всеуслышание рядом с именем господина де Рогана и священным именем королевы" – Александр Дюма "Ожерелье королевы"
У этой книги на самом деле два героя. Первый – это француз из Эльзаса, аббат Жан-Франсуа Жоржель, человек образованный, очень неглупый, по-житейски умудренный и наблюдательный и, к тому же, литератор хоть и не выдающийся, но и далеко не самый бездарный. Второй и главный герой – наш любимый Санкт-Петербург (аббат называет его "городом, ставшим одним из первых в Европе"), картина жизни которого на рубеже XVIII и XIX веков представлена в записках француза, который озаглавил их так, чтобы сразу же дать ответ на три главных вопроса: о чем рассказывает его книга (путешествие), куда он путешествовал (Санкт-Петербург), и когда (1799-1800 гг.). Опубликовано "Путешествие в Санкт-Петербург в 1799-1800 гг." было уже после смерти автора, в 1818 году.
Несколько слов об авторе записок. Жан-Франсуа Жоржель (1731−1813гг.) – французский священнослужитель (уроженец Эльзаса), член ордена иезуитов, аббат и доверенное лицо епископа Страсбурга; в революционную пору аббат, чтобы не стать жертвой репрессий был вынужден, как и многие деятели старого режима, отправиться в эмиграцию.
Священник, иезуит, дипломат и литератор Жоржель был человеком весьма непростым. Обращает на себя внимание тот факт, что он, в отличие от большинства французских мемуаристов (людей, не страдаюших от переизбытка скромности), не выпячивает по любому поводу свое "я" и старается если не быть, то по крайней мере выглядеть объективным и беспристрастным наблюдателем разыгрывающейся вокруг него "человеческой комедии".
"Весь мир театр, и люди в нем актеры" – но автор записок, судя по всему, предпочел сцене место в уютной ложе зрительного зала или, быть может, за кулисами представления, идущего на подмостках.
На самом деле это впечатление во многом обманчиво, потому что аббат был не только свидетелем, но и активным участником многих событий бурного восемнадцатого века, однако верный иезуитской выучке, любил создавать завесу таинственности, предпочитая откровенности иносказание, а прямоте – хитрость.
Так, Жоржель пишет, что он:
"Принял близкое участие в ведении знаменитого процесса, который я хотел бы предать забвению (тем не менее, зачем-то вспоминает его в своих записках). Несмотря на королевский титул августейших особ, возбудивших этот процесс… знаменитый обвиняемый вышел победителем из унижений заточения и уголовной процедуры и был торжественно увенчан руками справедливостию".
Что это за процесс, и о каком "знаменитом обвиняемом" идет речь? Мне почти сразу же пришло на ум прославленное Александром Дюма дело об "ожерелье королевы" – не в силу какой-то особой проницательности, а исключительно потому, что некогда я уже писал об этой истории (а точнее, некоторых ее деталях). По пути в Петербург мальтийские делегаты посетили курляндскую Митаву, (современная латышская Елгава) где нашел временное убежище брат казненного на гильотине французского короля, в будущем унаследовавший корону Франции под именем Людовика XVIII. Жоржель присутствовал на аудиенции, данной мальтийцам принцем, а потом принял участие в приеме (не путать с аудиенцией), устроенном герцогиней Ангулемской, дочерью короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Но тут неожиданно случился казус.
Жоржель пишет, что когда его представили принцессе, то он увидел явствено отразившееся на ее лице волнение; визитерам пришлось откланяться раньше времени. Чем же смутил герцогиню возрастной и, вне всякого сомнения, хорошо воспитанный аббат?
"Я пришел к тому заключению, что мое присутствие напомнило ей процесс, в котором я принимал ближайшее участие; счастливый исход этого процесса для высокопоставленного обвиняемого очень задел ее мать королеву, которая считая себя оскорбленной, заставила короля выступить обвинителем. Если бы я мог это предвидеть, я из уважения воздержался бы от появления на аудиенции" (все-таки речь шла об аудиенции, а не оприеме?).
Как пишут в детективных романах, мое подозрение перешло в уверенность. Речь, конечно же, шла о знаменитом уголовном процессе, случившемся незадолго до Великой французской революции, который Александр Дюма вольно пересказал в своем романе "Ожерелье королевы". Один из знатнейших людей Франции, кардинал Луи де Роган, был обвинен в мошенничестве и арестован. Его обвиняли в присвоении бриллиантового ожерелья громадной стоимости, которое он якобы покупал для королевы, и не расплатился за него перед ювелирами. Ожерелье было, по сути, взяткой, которая даровала кардиналу надежды на то, что испытывавшая к нему антипатию Мария-Антуанетта сменит гнев на милость и поможет де Рогану занять высокий государственный пост (было хорошо известно, что королева являлась сторонницей девиза "бриллианты – лучшие друзья девушек").
Почему кардинал поверил в то, что королева примет его услуги? Был ли сановник откровенно глуп, или чересчур доверчив, неизвестно, но он поверил ловкой авантюристке, некоей мадам де Ламотт которая, чтобы продемонстрировать свою дружбу с королевой, устроила Рогану мнимое свидание в версальском парке с августейшей особой, которую изображала внешне похожая на нее парижская модистка.
Роган был, по сути, невиновен в краже, однако проявил неуважение к королеве, раз уж принял за чистую монету то, что она готова участвовать в такого рода темной сделке, королева же вообще никак не была замешана в этом деле, однако публика, настроенная и против монархии, и против "австриячки" не поверила, или, скорее, не захотела поверить в ее непричастность к афере, и Мария-Антуанетта стала объектом всевозможных инсинуаций, клеветы и откровенной травли.
"Никогда Ламотт не удалось бы воздвигнуть такую пирамиду лжи, если бы легкомыслие королевы не заложило фундамент, а ее дурная слава не послужила бы лесами на этой стройке....То, что мошенники, использовав ее имя, смогли эту аферу осуществить, – в этом была и осталась историческая вина королевы, – пишет в своей книге «Мария Антуанетта» Стефан Цвейг. – Через два-три года после процесса по делу о колье репутацию Марии Антуанетты уже не спасти. Она ославлена, как самая непристойная, самая развращенная, самая коварная, самая тираническая женщина Франции; продувная же бестия, клейменная Ламотт, напротив, оказывается безвинной жертвой".
В конечном итоге де Роган, которого судил парижский парламент (пребывавший в оппозиции к верховной власти), был оправдан и выпущен на свободу, и расплачиваться за все пришлось "продувной бестии" Ламотт.
"Графиня Ламотт была единогласно признана виновной и приговорена «ad omnia citra mortis» – «ко всему, за исключением смерти». Парламент уточнил: публичное наказание розгами, наложение клейма на плечо в виде буквы V, конфискация имущества и пожизненное заключение в Сальпетриер, – пишет в своей книге "Графиня Ламотт и ожерелье королевы" Марк Алданов – Кардинал Роган и граф Калиостро признаны были ни в чем не виновными и от всякой ответственности по делу освобождались. По словам аббата Жоржеля, графиня Ламотт, услышав приговор, в исступлении осыпала королеву такой бранью, что ей пришлось заткнуть рот "
Какое же участие во всем этом принимал аббат Жоржель? Судя по всему, он был одним из защитников кардинала Рогана. Симпатии к "знаменитому обвиняемому", который вышел победителем из процесса, и был "увенчан справедливостию" недвусмысленно сквозят в его словах, равно как и то обстоятельство, что дочери Марии-Антуанетты была неприятна та роль, которую он сыграл в этом деле.
Впрочем, мотивы поведения аббата можно понять. В биографической справке Жоржеля указано, что он был доверенным лицом епископа Страсбурга (иногда уточняют – викарием); между тем, князем-епископом Страсбурга как раз и был долгие годы тот самый кардинал Луи де Роган. Более того, Роган служил одно время послом Франции в столице Австро-Венгерской империи Вене, – месте, где аббат подвизался в качестве дипломата. Сложив два и два, нетрудно придти к выводу, что аббат был сотрудником Рогана, и сложно упрекать его в том, что в непростой жизненной ситуации он встал на защиту своего шефа, – человека, который оказывал ему свое высокое покровительство. Автор комментария к малоизвестному роману А. Дюма «Волонтёр девяносто второго года» даже утверждает, что аббат "был замешан вместе со своим шефом в аферу с похищением ожерелья Марии Антуанетты и арестован, но оправдался (вообще-то "был арестован, но оправдалс" не Жоржель, а кардинал), но это суждение выглядит чересчур легковесным.
Упоминание о вовлеченности аббата в дело об ожерелье содержится и в книге М. И. Пыляева "Замечательные чудаки и оригиналы. Старое житье".
"Надо думать, что о целости знаменитого ожерелья у де-Ламот знал и приезжавший в Россию при императоре Павле I аббат Жоржель, автор известного труда «Дело о колье. Париж. 1875». Собственно, это не книга, но переплетенное собрание тех судебных документов, которые были напечатаны и изданы разными сторонами в этом знаменитом процессе об ожерелье. Эти бумаги, переплетенные в два тома in quarto, с портретами, картинами, с заметками, пасквильными песнями и тому подобное, иногда самого нецензурного свойства. Это один из обширнейших сборников лжи, какие только существуют в печати".
Вне всяких сомнений, аббат писал об этой истории в своих мемуарах (которые не были, и едва ли будут когда-нибудь переведены на русский язык), однако вызывает сомнение то, что упомянутый Пыляевым труд – "Дело о колье" принадлежал именно ему, не говоря уже о странной дате выпуска книги – 1875 год (быть может, речь шла о переиздании?). Как бы то ни было, имя Жоржеля оказалось прочно связанным с процессом об "ожерелье королевы" (не путать с историей о подвесках, ставшей темой другого, наиболее известного романа Дюма – "Три мушкетера"), и в материалах, повествующих об этой скандальной истории, часто всплывают приписываемые ему цитаты – например, о том, что "Она (то есть Ламотт) была не очень красива", или утверждение, что "госпожа де Ламотт трагически погибла во время очередной оргии".
С какой целью аббат, человек к тому времени уже достаточно преклонного возраста (во всяком случае, по меркам той эпохи) совершил путешествие в далекую северную страну? Конечно, можно вспомнить что знаменитый Робинзон Крузо, которому было уже за семьдесят, тоже посетил загадочную Московию, и проехал с торговым караваном всю нашу страну от китайской границы до Архангельского порта, однако герой Даниэля Дефо, в отличие от Жоржеля, был литературным персонажем, а не реальным лицом.
Автор комментария к запискам Жоржеля утверждает, что аббат приезжал в Санкт-Петербург в составе посольства от рыцарского ордена св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийского ордена), отправленного к императору Павлу I с тем, чтобы предложить ему сан великого магистра ордена (это высокое звание предлагалось и другим европейским государям, но все благоразумно предпочли отказаться); Павел I, будучи православным, а не католиком, оказался человеком более великодушным, благородным и не столь расчетливым, как прочие европейские владыки, и поэтому согласился принять этот пост ("Принимая этот сан, государь этот спасал от крушения корпорацию, покрытую славой в течение нескольких веков", – пишет Жоржель).
Чтобы убедиться в том, что указанная в комментарии цель не полностью соответствует исторической правде, достаточно просто взглянуть на даты.
Аббат пишет, что посольство прибыло в Петербург в самом конце 1799-го года. Между тем известно, что император Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена еще год назад, в декабре 1798 года; к его императорскому титулу были добавлены слова «Великий магистр ордена св. Иоанна Иерусалимского». Отсюда со всей очевидностью явствует, что миссия, участие в которой принимал Жоржель, руководствовалась не той целью, которую указал комментатор, а какими-то иными соображениями, тем более что речь шла о региональном, немецком посольстве (именуемом в записках "депутацией").
Очевидно, что речь шла о налаживании контактов с новым начальством и о желании добиться поддержки, финансовой помощи или иных преференций от могущественного правителя России, ставшего главой мальтийского ордена. Каким образом французский священник, пусть даже и уроженец Эльзаса, оказался в составе немецкой делегации? Новая, революционная, власть стремилась преобразовать не только общество, но и церковь, и потребовала от католических священников, чтобы они принесли присягу на верность французскому государству, что вызвало раскол среди духовенства.
"Мне предстояло выбирать между преступной присягой и изгнанием; я, не колеблясь, избрал последнее", – пишет Жоржель. Из советской истории мы знаем, что победившая революция практически сразу же вступила в жесткую конфронтацию с религией и ее служителями, в которых видела убежденных приверженцев старого режима; судя по-всему, в революционной Франции происходило нечто похожее, возможно в более мягкой форме (впрочем, в последнем я не убежден).
Уроженец Страсбурга нашел убежище в германском Фрейбурге и когда ему, с учетом былого дипломатического опыта (аббат, как будто, долгое время был секретарем французского посольства в Вене, а затем и поверенным в делах Франции), было предложено войти в состав депутации, он решил, что речь идет о предложении, от которого невозможно отказаться, так как приютившие его местные власти могли бы расценить его отказ как проявление черной неблагодарности. Не случайно аббат говорит в своих записках о неоднократных и настойчивых просьбах со стороны депутатов которые, впрочем, с характерной для иезуитов склонностью к эвфемизмам называет не прямым давлением или назойливостью, а "свидетельствами благосклонного отношения к моей персоне".
В состав депутации (она же делегация) Великих Приорств Мальтийского ордена из Германии и Богемии, вошли великий бальи, пфюрдтский барон Блюмберг, "столп германского языка" (честно говоря, достаточно непросто разобраться, какие из перечисленных слов обозначают имя, а какие являются феодальным титулом или орденским званием; в любом случае очевидно, что именно такой человек должен был возглавить депутацию), баденский барон командор Везель, аббат Жоржель и другие, менее значительные, лица.
Кто такой был великий бальи, глава делегации? Разобраться в иерархии чинов и структуре мальтийского ордена оказалось крайне непросто. Некогда великий Магистр Ордена госпитальеров Раймон Дюпюи разделил орден по национальному признаку на так называемые «языки», или «нации»; каждая "нация" состояла из приоратов, Великих Приоратов, бальяжей и командорств, которыми управляли командоры, приоры и великие приоры. Командоры, как я понял, подчинялись приорам, а высшим должностным лицом в рамках "языка" являлся великий приор; что же касается бальи, то они, во всяком случае изначально, были судьями.
При этом Великий Бальи, помимо судейских функций (если они у него еще сохранялись) – он же "столп Германии", отвечал за сохранность оборонительных сооружений, обеспечение боеприпасами и продовольствием. Высшим должностным лицом германского филиала ордена был Великий приор (Жоржель называет его "принцем"), однако он в Россию не поехал, а делегировал свои полномочия великому бальи, судя по всему, занимавшему следующий по значимости пост в немецком "языке".
Итак, в сентябре 1799 года депутация мальтийских рыцарей из Германии и Богемии отправилась в долгий путь. Какой прием ждал ее в Санкт-Петербурге, столице далекой северной державы, глава которой волею судеб принял сан главы ордена?
Глава 2. Дорога на Санкт-Петербург
"Сегодня почти каждый, кто когда-то путешествовал по России, стал считать себя экспертом, и почти каждый такой эксперт не согласен со всеми остальными экспертами" – Джон Стейнбек "Русский дневник"
"Известно ли вам, что значит путешествовать по России?" – Астольф де Кюстин "Россия в 1839 году"
На русской границе, которая проходила тогда через Брест, депутация появилась в ноябре 1799 года.
Как пишет Жоржель, русская застава охранялась двумя казаками с длинными пиками. Пограничники затребовали у приезжих паспорта, которые были отнесены в кордегардию (заметим, что на австрийской границе их тоже заставили показать паспорта).
Теперь гостям требовалось пройти таможню (как видим, все происходило, как в наши дни – ну, почти), куда солдат отнес их паспорта.
Делегаты были предупреждены, что русские таможенные порядки отличались большой строгостью: и сами экипажи, и чемоданы осматриваются очень тщательно, а провоз писем в запечатанных конвертах и вовсе запрещен. Впрочем, как замечает аббат, чиновники вели себя достаточно вежливо (быть может, это было связано с высоким статусом мальтийцев); они вернули гостям паспорта и заявили, что сами придут на почтовую станцию для проведения досмотра.
По прибытии чиновники осведомились у гостей, имеют ли те запечатанные письма и товары, которые облагаются таможенной пошлиной. Депутаты ответили, что запечатанные письма у них есть, но они адресованы не частным лицам, а императору и его министрам.
"Мы сунули им в руку два червонца: они поверили нам на слово и удалились", – пишет аббат.
Что произошло бы, если таможенники нашли бы у лица, пересекающего русскую границу (ну, или группы лиц, находящихся в сговоре)спрятанные в укромном месте, и при этом запечатанные конверты с письмами сомнительного, а то и вовсе крамольного содержания?
"Тех, у кого найдут запечатанные письма, грозит большой штраф, а иногда даже тяжкие телесные наказания. Таможенные чиновники, которым удается захватить их, щедро награждаются: отсюда строгость их досмотров и обысков (самое время вспомнить героя "Мертвых душ" Чичикова, который мечтал работать на таможне).
Поскольку у аббата и его товарищей ничего предосудительного не нашли, да и не особо искали, создается впечатление, что это рассуждение аббата основано не на собственном опыте, а на слухах с грифом "хайли лайкли". И не исключено, что разговоры о "тяжких телесных наказаниях" были если не вымыслом, то изрядным преувеличением.
"Сыск доведен до крайности. Вам возвращают ваши письма распечатанными с разорванной почтовой печатью. От вас даже не скрывают, что ваше письмо прочитано. Книги, брошюры и даже музыкальные ноты подвергаются самому суровому осмотру. Русские самодержцы полагают, что излишек знаний и света может поколебать безгласное повиновение народа, который желают держать в цепях рабства".
Создается впечатление, что соавтором этого абзаца вполне мог бы стать знаменитый русофоб маркиз де Кюстин, автор "России в 1839 году".
Несмотря на эти крайние меры и беспрестанно возобнвляемые указы, я мог убедиться в том, что с помощью золота можно преодолеть все препятствия и перешагнуть через все заставы (далеко не все лица, минующие границу, были мальтийскими рыцарями, и многоопытные таможенники наверняка знали, в каких ситуациях можно принимать мзду, а когда лучше проявить служебное рвение).
Заинтересовал ли гостей сам пограничный город? Похоже, что нет, и делегация возобновила свое движение. В записках аббата Брест удостоился таких слов:
"Брест – большой и многолюдный город; у нас не было ни малейшего желания осматривать его; улицы наводнены грязью"
Еще одним городом, а точнее, городком, располагавшимся на расстоянии чуть более ста верст от конечной цели путешествия мальтийцев был Ямбург.
"Ямбург – маленький городок с красивой греческой церковью; здесь имеются три общественных здания, постороенных из кирпича, где помещаются суд и школы; они хорошо построены; площадь окружена кирпичными домами, похожими один на другой, где находятся лавки с крытой галереей… Все эти здания, построенные в царствование Екатерины II в забросе, их не ремонтируют".
В 1922 году город Ямбург (ранее – Ям, Ямы или Ямагород) получил новое название – Кингисепп; сейчас это административный центр Кингисеппского района Ленинградской области. В царствование Екатерины II кто-то из важных лиц задумал грандиозный проект создания в Ямбурге регионального промышленного центра. Был придуман новый план города, и началось строительство мануфактуры по выделке сукна, шелка и других изделий, а также гостиного двора с крытой галереей. Впрочем, индустриальная революция в Ямбурге по каким-то неведомым причинам так и не совершилась, и городок остался тем же, чем и был раньше – почтовой станцией на пути из Прибалтики в Петербург (ну, или наоборот), а в дальнейшем, с появлением железных дорог, и вовсе пришел в упадок.
Путешественики, останавливающиеся в Ямбурге для отдыха и смены лошадей, во всяком случае, наиболее любознательные из них, чтобы заполнить образовавшийся досуг, отправлялись, как и полагается истовым туристам, на осмотр достопримечательностей городка.
"Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности" – Н.В.Гоголь "Выбранные места из переписки с друзьями".
Заметим, что классик давал совет обращать внимание не только на "архитектурные строения и древности", но в первую очередь на людей, потому что "человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину", однако далеко не все следовали этому напутствию, в частности еще и потому, что увидеть что-либо примечательное в случайно встреченных людях намного сложнее, чем восхищаться памятниками.
В случае же, если примечательностей и древностей обнаружить не удавалось, путешественики не унывали и заносили в свой дневник информацию о каком-либо заметном или просто выделяющемся своим размером объекте, случайно попавшемся им на глаза. Примерно так поступил и отправлявшийся в долгий вояж по Европе Н.М. Карамзин.
В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. – Николай Карамзин "Письма русского путешественника"
Покинув Ямбург, в самый разгар зимы – в конце декабря 1799 года мальтийская депутация вскоре прибыла в Санкт-Петербург, а точнее его пригород – Царское Село.
Аббат пишет, что городок этот им очень понравился, тем более что они сумели найти там порядочную гостиницу, хотя:
«Стоянка обошлась нам недешево, так как за простой взяли с нас 2 рубля, да столько же за плохой завтрак… Спорить с ними (служителями) бесполезно и опасно; приходится платить и молчать».
Аббат добавляет: «Русские любят обдирать иностранцев»… (Спрашивается, а кто из работников сферы услуг этого не любит?) По словам Жоржеля, Царское село – городок с красивыми деревянными домами, там есть греческая (т.е. православная) церковь. Упоминает он и о том, что в городе находится дворец, принадлежащий императорской фамилии.
В царском селе находится дом, принадлежащий императорской фамилии, построенный императрицей Елизаветой; называется он домиком Екатерины II; это было ее любимое убежище (Если автор имеет ввиду Большой Екатерининский дворец, то он был назван в честь Екатерины I, супруги Петра Великого; дворец была заложен в 1717 году в качестве ее летней резиденции, в дальнейшем, при Елизавете, он был расширен и благоустроен).
Для нового императора, Павла I, любимой "ближней дачей" которого была дальняя Гатчина, царскосельская резиденция стала местом, убранством которого он воспользовался для осуществления других, более приоритетных проектов.
"Грозный метеор" пронесся и над Царским селом, – пишет в книге "Царское село" С.Н. Вильчковский. – Началась в буквальном смысле ломка. Архитектор Бренна, строитель Михайловского замка, получил высочайшее повеление взять из Царского села все, что посчитает нужным для украшения Михайловского дворца, Павловска и Гатчины: картины, статуи, бронза, антики, мебель – вывозились из Царского".