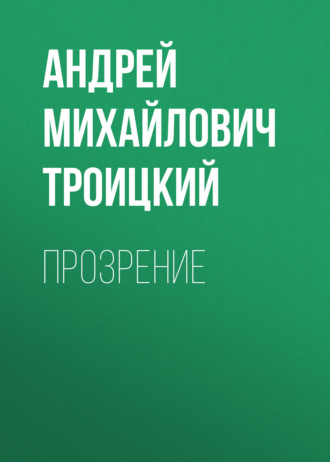
Полная версия
Прозрение
Благополучно проводив в Москву всех участников конференции, я оставил себе двух переводчиков (английского и арабского языка) и продолжил общение с потенциальными арабскими партнёрами. Примерно через неделю, следуя многолетней традиции, приехала в те края на Рождественские каникулы группа моих работников. Эту поездку правильнее было бы отменить, в связи с «широкой ограниченностью в средствах», но меня подвели природная упёртость и хронический оптимизм. Очень кстати вспомнилось четверостишье Игорь Губермана:
Несчастным не был я нисколько,
легко могу сказать теперь уж я,
что если я страдал, то только
от оптимизма и безденежья.
В пригороде Потсдама есть живописный парк (чем-то напоминающий наш Петродворец) под названием – "Сан Суси", что переводится с французского примерно так – "Нет проблем". Как рассказывали экскурсоводы, прусский король – Фридрих Четвёртый начал создание этого паркового ансамбля в самый критический период своего правления, когда он со всех сторон был окружен неприятелями и союзники его предали. В знак того, что все эти обстоятельства мало его беспокоят, Фридрих закладывает первый камень парка развлечений с вызывающим названием.
Вот и мне не хотелось нарушать добрых традиций, несмотря на банковский кризис и связанные с ним финансовые проблемы. Это была моя очередная ошибка. Поездку на берег Персидского залива в тот год лучше бы перенести на более подходящее время. Но наверно так было суждено Свыше – изолировать меня на время от внешнего мира для наведения порядка в душе, голове и теле. В вышеперечисленных моих органах и субстанциях в тот период жизни, после многочисленных и совершенно нелогичных (с точки зрения земной логики) "обломов" – у меня был полный бардак. Особенно после августа 1998, – "крыша" уже потихоньку начала съезжать. Как гласит народный фольклор: «Тихо шифером шурша, – крыша едет не спеша».
Встретив группу своих передовиков производства, я уехал с ними из столицы в отдалённый штат, где мы обычно отдыхали. Все необходимые условия для проживания мало чем отличались от столичных, но берег моря был намного чище и это нас привлекало. Как потом оказалось, штат этот славился во всём регионе нечистоплотностью в делах. Начиная с правителя, который у "руля" был уже 65 лет, и по всей вертикали власти, соблюдались вековые традиции: "Как бы кого-нибудь обдурить". Когда я после конференции общался с одним бизнесменом (бывшим в своё время вице-премьером этой страны) и сказал ему, что собираюсь на отдых в отдалённый штат, – он посмотрел на меня, как на марсианина и сказал следующее: "Андрей! Если ты там с кем-нибудь поздороваешься за руку, не забудь после этого посчитать пальцы на своей руке – все ли они на месте".
Тогда я не придал значения его словам, но позже убедился на своём опыте, что в этом выражении кроется очень большой смысл. Ибрагим, так звали моего потенциального компаньона, рассказал мне случай, произошедший в те годы, когда он работал в правительстве: отдалённый штат, о котором идёт речь, был самый бедный в этой стране. Несмотря на то, что на его территории находились чуть ли не самые большие запасы – нефти, пресной воды, различных полезных ископаемых, – население этого штата влачило жалкое существование. Плохо развивались культурные и социальные программы. Зато у правителя, как грибы после дождя, в Лондоне росли кварталы доходных домов, большие средства инвестировались в выгодные проекты за границей. Надо сказать, что для местного правителя авторитетов не было ни в своей стране, ни в каких-то всемирных общепризнанных организациях. Он сам был в своём штате, образно говоря, – царь и бог.
Глядя на этот беспредел, центральное правительство решило самостоятельно финансировать социальные и культурные программы, чтобы бедный штат не сильно отставал от других, которые развивались довольно успешно. На одном из заседаний министров было принято решение – построить в беднейшем штате ипподром для верблюжьих бегов. Для этой цели из государственного бюджета было выделено 50 миллионов дирхам и переведено в администрацию местного правителя; утверждён проект и сроки строительства. Прошло время и в центральном правительстве решили поинтересоваться ходом строительства. Прислали к своевольному шейху делегацию, которая на месте будущего ипподрома не обнаружила даже забитых колышков, – никто и не думал там что-то возводить. Когда члены делегации задали вопрос шейху: "А где же ипподром, на строительство которого мы перевели наши денюжки?", то в ответ от правящего шейха услышали примерно следующее: "Какой ипподром? Я подумал, что это вы мне в качестве подарка на 85-летие перевели данную сумму". С тех пор центральное правительство уже денег на подобные программы в администрацию шейха не переводит, а строит все социальные объекты самостоятельно.
Я для того так подробно об этом рассказываю, чтобы было понятно в какую клоаку мне "посчастливилось" попасть по Воле Всевышнего. Забегая вперёд, скажу, что за пять лет, которые я провёл заложником в гостеприимном зиндане беднейшего штата, средства на погашение суммы моей задолженности перед истцом поступали в администрацию шейха тринадцать раз – безрезультатно и только на четырнадцатый раз, когда вмешалось посольство Великобритании и контролировало процесс моего освобождения – я оказался на свободе. Англичане в тех краях чувствуют себя хозяевами. Наши же дипломаты больше похожи на мальчиков для битья. К тому же их мало интересовала судьба россиян, попавших в затруднительную ситуацию. Больше внимания они уделяют своему благополучию и спокойствию. Ну, да Бог – им судья. Ни к кому у меня претензий нет. Но, как говаривал таможенник Верещагин в известном фильме: «За державу обидно».
Отдых моих работником проходил как обычно – весело и непринуждённо, но мне было не до отдыха, – я постоянно "висел" на телефоне (как позже выяснилось потратил я на это занятие более пяти тысяч долларов) выслушивая клятвенные заверения моих должников о скорейшем переводе денег. Дело в том, что господа олигархи так и не перечислили обещанной суммы и расходы на проведение конференции пришлось погашать из других источников. Частично помогла в решении этого вопроса туристическая компания, которая организовывала отдых для моих работников (закончив с конференцией, я выставил "братцам-олигархам» счёт на оговоренную сумму с реквизитами туристической компании, для удобства получения денег и оплаты услуг принимающей стороны).
"Братья" же нефтяники, ссылаясь на последствия банковского кризиса, всячески откладывали перевод денег. Такими правдоподобными непредвиденными обстоятельствами они объясняли отсрочку платежа, что не поверить было невозможно. Так шла неделя за неделей, а деньги на счёт туристической компании всё не поступали
Проводив домой группу своих работников, отдохнувших и загоревших за две недели, я с переводчиком – обрусевшим египтянином – остался на берегу Персидского залива в ожидании перевода денег и продолжая общение с потенциальными партнёрами. Чрезмерная доверчивость и врождённый оптимизм меня частенько подводили, но правильных выводов из этого я никогда не делал, продолжая доверять людям. Когда ко мне пришло понимание того, что все оправдания по поводу задержки перевода – лишь красивая "разводка" и денег мне здесь не дождаться, я решил возвратиться в Москву для личной встречи со своими должниками. Переводчик мой, египтянской наружности, почуяв неладное, не говоря мне ни слова, ночью исчез в неизвестном направлении. Как позже выяснилось, он поехал к своему брату, фирма которого работала в этой стране.
Оставшись в гордом одиночестве, я договорился о встрече с Далялем, – хозяином отеля, в котором жил в кредит (одновременно он же являлся хозяином туристической компании, организовывающей отдых моим работникам). Вскоре наша встреча состоялась, и мы наконец познакомились. До этого, для решения каких-то организационных вопросов, меня вполне устраивал уровень менеджера туристической компании – Гасана и управляющего отелем, в котором мы проживали, по имени – Камаль.
С их хозяином мы встретились впервые и, как мне показалось, сразу же нашли общий язык. Я объяснил ему, что дальнейшее ожидание перевода денег не имеет смысла и мне необходимо вылететь в Москву для личного разговора с плательщиком. Даляль в принципе не возражал относительно моего вылета в Москву, но ему хотелось иметь какие-то гарантии моего возвращения или получения денег другим путём. Тогда я ему предложил следующий вариант: "Если у тебя в Москве есть доверенный человек, – я отдаю ему одну из моих машин, например – Линкольн, стоимость которого намного превышает сумму задолженности и пишу генеральную доверенность. То есть автомобиль фактически переходит в его собственность. Я возвращаюсь домой и, оперативно решив финансовые вопросы, погашаю задолженности перед туристической фирмой и отелем. После чего Линкольн возвращается ко мне".
Даляля такой вариант решения вопроса устраивал, и мы уже почти "побились" по рукам, но в это время в кабинет зашёл какой-то его партнер из местных бизнесменов (как потом оказалось – большой знаток русской мафии). Они перебросились несколькими фразами на арабском языке, после чего Даляль мне заявляет: "Ты знаешь, Андрей, твой вариант мне не подходит". На что я ему отвечаю: "Если мой вариант не подходит, – предлагай свой". Они ещё пообщались со своим товарищем на своём родном языке, после чего Даляль говорит: "Ты сможешь улететь в Москву, оставив у меня в отеле кого-нибудь из своих доверенных людей". Я говорю: "Хорошо, но это займёт несколько дней или неделю, пока мой человек прилетит из Москвы. А срок действия визы у меня заканчивается, – могут быть проблемы". "С визой у тебя проблем не будет, этот вопрос я беру на себя", – успокаивает меня хозяин отеля. На том мы и порешили.
На следующий день я позвонил в Москву своему водителю, который верой и правдой служил мне десять лет без полноценных отпусков (я и сам их не имел) и предложил ему недельку-другую позагорать на берегу Персидского залива, пока я буду решать финансовый вопрос. Сергей, так звали водителя, с радостью согласился на такой вариант и через неделю, которая ушла на всяческие организационные вопросы, он уже был у меня. Днём позже я зашёл к Камалю – менеджеру отеля – и сообщил ему, что мой доверенный человек прибыл и мы готовы к подписанию необходимых бумаг, чтобы я имел возможность вылететь в Москву и оперативно решить вопрос моей задолженности перед Далялем.
Проходит неделя, пошла вторая, а мои «благодетели» не торопятся нас приглашать на подписание документов с обязательствами. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Захожу я как-то утром в кабинет Камаля и спрашиваю его: "В чем причина задержки? Я за это время уже порешал бы все вопросы в Москве и вернулся обратно с деньгами". Но на Востоке торопиться не любят. "Сейчас у нас праздники, – говорит Камаль, – и наш хозяин в отъезде. Вот когда он приедет, мы все организационные вопросы решим".
Нужно заметить, что праздников, вернее сказать – нерабочих дней, в тех краях больше, чем рабочих. Кто-то родился в правящей семье (а к ней каким-то боком относится большая часть коренного населения страны), – неделю никто не работает, кроме конечно сферы обслуживания и торговли. Кто-то умер из той же компании – траур, опять работать не моги неделю, а то и больше. К этим нерабочим дням нужно прибавить календарные мусульманские праздники, а также все общепризнанные, которые отмечаются по всему миру.
Если учесть, что все государственные конторы официально работают у них до 14 часов, то получается, что там в году рабочих часов – раза в три меньше, чем у среднего россиянина. Германские работодатели давно ломают голову: «Чем загрузить своих рабочих?», намереваясь узаконить 4-х часовой рабочий день, а братья-арабцы давно уже этот вопрос решили.
Наконец, возвращается с отдыха Даляль, но никаких положительных изменений не последовало. Напротив, началась какая-то закулисная возня и проволочки. Однажды поздно вечером заходит ко мне в номер изрядно подвыпивший менеджер туристической компании – Гасан и начинает мне «плакаться в жилетку». «Андрей, ты извини, что мы тебя здесь держим в качестве заложника. Мы так с тобой хорошо работали в течение долгих лет, никогда друг друга не подводили. Будь я хозяином компании, ты бы уже давно улетел в Москву для решения финансовых вопросов, без каких бы то ни было условий. Ведь ты же переводил нам крупные суммы денег на полном доверии. Но, к сожалению, я лишь исполнитель и помочь тебе в этой ситуации теперь уже ничем не могу», – были его прощальные слова.
Последняя фраза должна была меня насторожить, но я принял всё это за пьяный «базар» и невдомёк мне было, что уже тогда на меня готовились исковые документы для подачи в суд. Хотя все вокруг продолжали усердно кланяться и улыбаться. Восток – дело тонкое. Правда, знакомство с ним (имеется в виду – с Востоком), методом глубокого погружения, несколько изменило моё отношение к этой поговорке. Ничего тонкого я у народонаселения Востока не заметил. Жажда наживы и получения выгоды для себя – любым путём и средствами, – вот их жизненный девиз.
Там могут клясться тебе в любви и верности до гроба, если ты приносишь какую-то ощутимую прибыль, и сделать разворот на 180 градусов, если найдётся более выгодный вариант. Так что, – на Востоке нужно держать ушки на макушке, чтобы не остаться в дураках. На тюрьме я встречал достаточно много бизнесменов, которые, доверившись обещаниям арабской стороны, вкладывали свои средства и не малые в совместные предприятия. Но когда фирма набирала обороты и начинала приносить большой доход, арабский компаньон «закрывал», под каким-то предлогом, своего соучредителя, не желая делить с ним прибыль.
В тех краях это делается очень просто, достаточно одного звонка в полицию. Местное законодательство построено таким образом, что блокирующий, контрольный пакет акций предприятия всегда принадлежит аборигену, которого называют спонсором (хотя он ни цента в это мероприятие не вкладывает), а иностранная сторона совершенно бесправна. Есть даже такая шутка про местное коренное народонаселение: «Национальность – локал; профессия – спонсор».
Многие местные жители являются учредителями нескольких предприятий и только делят прибыль, совершенно не участвуя в производственном процессе. Аппетит у них из года в год растёт и если иностранный партнёр начинает возмущаться, то очень быстро оказывается за решёткой и, в лучшем случае, будет через несколько месяцев депортирован. В худшем же варианте, если арабский компаньон предъявит ему серьёзные финансовые претензии, то в заключении можно провести долгие годы. Финансовые иски сроком не обозначены – можно сидеть хоть всю оставшуюся жизнь, пока не погасишь исковую задолженность или за тебя не заплатит какая-нибудь благотворительная организация. Такие явления там не редки, но об этом я расскажу чуть позже.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ АРАБСКИЙ СУД –
САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ
Томясь тоской и самомненьем,
не сетуй всуе, милый мой,
жизнь постижима лишь в сравнении
с болезнью, смертью и тюрьмой.
«Сколько верёвочке не виться, а конец – будет», – гласит старая русская пословица. Так случилось и на этот раз. Настал день, когда нас с моим водителем Сергеем и переводчицей из отеля пригласили в какую-то официальную контору для подписания необходимых бумаг. Там мне задали единственный вопрос: «Согласен ли ты, что должен хозяину отеля сто (с небольшим) тысяч дирхам». Я ответил, что согласен и готов под этим подписаться. Мне дали подписать какие-то бумаги, составленные на арабском языке, после чего заявили примерно следующее: «Вы можете быть свободны», – обращается хозяин кабинета, в котором мы находились, к переводчице и моему водителю. «Вас, – говорит он в мой адрес, – я попрошу задержаться ненадолго. Завтра будет суд, он вынесет своё решение, и вы сможете вылететь в Москву». Меня «закрывают» в каталажку, что в мои планы никак не входило, и держат там до суда, который состоялся не завтра и не послезавтра, а через неделю.
Судом это мероприятие назвать можно только с большой натяжкой. Повторюсь, но сталинские «тройки», в сравнении с тем судом, – предел совершенства в юриспруденции. Выглядит всё это примерно так: заводят тебя в комнатушку площадью 10-12 м2, в которой стоит стол, заваленный различными бумагами, а за столом восседает какой-то «мухомор» с видом мудреца из восточных сказок. Снимают с тебя наручники и усаживают в кресло, которым до этого момента пользовались лет триста. Рядом стоит конвоир. В таком же кресле напротив сидит представитель истца – Камаль. Ни переводчика, ни адвоката, ни представителя посольства «суд» этот не предусматривает. Судья находит в ворохе папок, который возвышается по правую руку, моё «дело» и задаёт мне вопрос: «Араби малюм?», – что означает: «По-арабски понимаешь?» Я говорю: «Нет». «Мафи мушкиля», – что в переводе на русский язык означает: «Нет проблем», – успокаивает сам себя судья. Я предложил для перевода воспользоваться услугами Гасана – менеджера туристической компании. Камаль набирает номер мобильного телефона Гасана, который русский язык знает очень хорошо, так как закончил наш ВУЗ, и предлагает судье использовать его в качестве переводчика. Судья не возражал.
«Андрей, подпиши все необходимые бумаги и завтра полетишь в Москву», – предлагает мне Гасан. Все документы составлены на арабском языке. «Гасан, – говорю я ему в ответ, – подписать бумаги мне не сложно, но если ты что-то не договариваешь, – будешь долго об этом жалеть, Бог тому свидетель». Гасан меня успокаивает: «Михалыч, никаких проблем не будет, я тебе отвечаю». Подсознательно я предчувствовал какой-то подвох с их стороны, но бумаги всё же подписал в надежде на лучший исход. Предчувствия меня не обманули и назавтра вылет в Москву не состоялся, а состоялся он лет пять спустя. Гасан, как я и предсказывал, за своё коварство получил сполна – Бог его наказал, но об этом речь пойдёт чуть позже. Я подписываю все предложенные бумаги, судья делает на них свои пометки и моя папка перекочёвывает на левую сторону стола. Это означает, что суд закончен. Мне снова одевают «браслеты», но везут уже не в «предвариловку», а на «централ», где меня встречают, переодевают в синюю форму, делают соответствующую причёсочку – под Котовского. Вот здесь до меня начало доходить, что предчувствия мои были небезосновательны.
На «централе» меня встретил Андрей из Литвы, – мы с ним до этого перекинулись несколькими словами, когда его готовили к поездке в суд, а это всегда происходило в «предбаннике» территории предварительного заключения. Он ждал меня с нетерпением, так как почти полгода был единственным европейцем среди трёхсот представителей местного народонаселения. Хотя у него были друзья-товарищи, – Иса и Дервиш (о них мне хотелось бы рассказать отдельно), – с которыми он обсуждал грандиозные проекты совместных предприятий по всему миру, но с соотечественником тоже хотелось пообщаться.
Встретили они меня радушно. Вслед за мной из суда пришла копия приговора, которую мы совместными усилиями перевели. Андрей с детства хорошо знал английский язык и сириец Иса хорошо его знал. Так что проблем с переводом у нас не было. Приговор содержал примерно следующее: «За то, что владелец отеля удерживал мой паспорт, тем самым не давая возможности обновить визу, – оштрафовать его на 300 дирхам; меня, за нарушение визового режима, – оштрафовать на 200 дирхам и депортировать». В конце приговора была приписка: «После решения финансовых вопросов». Каких вопросов? Где эти вопросы надо решать? Об этом сказано не было.
Андрей и его товарищи стали меня успокаивать: «Михалыч, не переживай, скоро поедешь домой!» Но у меня такой уверенности не было. Напротив, было предчувствие, что процесс освобождения растянется на долгие годы, как оно и произошло в действительности. Я подал кассацию, через пару недель состоялся ещё один суд. На этот раз он больше походил на сталинские тройки. Комната была побольше, мебель посвежее. За большим столом восседал седовласый старец, похожий на Деда Мороза. По правую и левую руку сидели смиренно его два помощника. Старец ознакомился с моим делом и задал вопрос, больше похожий на ответ: «Ведь ты не имел возможности обновить визу, т.к. паспорт удерживался в отеле?» Я отвечаю утвердительно. «Значит, твоей вины в нарушении визового режима нет?», – продолжает судья. Я возражать не стал. «Тогда почему ты пострижен и одет в тюремную робу?», – спрашивает Дед Мороз. «Это вопрос скорее к вам, чем ко мне», – отвечаю я ему.
В этот момент, помощник судьи, который находился по правую руку, достаёт какой-то листочек и передаёт его своему шефу. Тот, ознакомившись с содержанием документа, обращается ко мне и выдаёт примерно следующее: «Вот ещё один приговор суда, который говорит о том, что ты должен в течении года выплатить владельцу отеля сто четыре тысячи дирхам. После чего будешь депортирован из страны». Оказывается, неделей раньше состоялось судебное заседание, на которое меня даже не пригласили, где и родился этот документ. Кассационный суд оставил два предыдущих приговора без изменения. Судья, с чувством выполненного долга, закрыл моё дело, показав тем самым, что судебное заседание окончено.
Некоторые господа, к мнению которых прислушиваются окружающие, утверждают, что в стране моего пребывания, благодаря строгим законам, уровень преступности очень низок. Эти утверждения кроме улыбки у меня ничего не вызывают. Если посчитать количество преступлений на душу коренного населения, то там их пожалуй будет больше, чем у нас. А как работает у них судебная система, я попробую Вам сейчас рассказать.
Действительно, местные суды не скупятся на вынесение смертного приговора. За время моего там пребывания приговорённых к высшей мере, во всех штатах, был не один десяток. Как правило, выносились подобные приговоры за убийство или контрабанду большого количества наркотиков. Но лишь однажды приговор был приведён в исполнение, когда пакистанский подросток изнасиловал и убил малолетнюю дочь местного шейха.
В остальных же случаях до исполнения приговора дело не доходило. Для «мокрушников» – там всегда была альтернатива смертного приговора. Если родственники убиенного не возражали (а они не возражали), то смертный приговор заменялся сроком (обычно, десятилетним) и выплатой, семье пострадавшего, пособия размером 150 тысяч дирхам. Подавляющее большинство потерпевших соглашались на такой вариант и это, на мой взгляд, очень правильно и гуманно. У «мокрушника» будет время для раскаяния, а семья убиенного получит денежное пособие, которое хоть немного компенсирует потерю кормильца или наследника. А в случае, если приговор приведут в исполнение, никому от этого лучше не станет. Но на эту тему мне бы хотелось поговорить отдельно и про моё отношение к смертной казни будет посвящена отдельная глава.
Что же касается наркокурьеров, приговорённых к высшей мере наказания, то с ними дело обстояло по-другому. Выносится смертный приговор, о чём сообщают все местные СМИ на первой полосе; «смертник» сидит и ждёт своей участи, а на свободе его хозяева активно хлопочут о судьбе несчастного, так как курьер им нужен живой. Хлопоты свои они подкрепляют значительными денежными суммами и вскоре назначается новое заседание суда, где смертный приговор заменяется на 25 лет тюрьмы. Месячишка через два-три после этого, хозяева курьера ещё немного «пошуршат» денежными знаками в местном суде и срок сокращается до 10 лет. Потом – до двух лет. В итоге «висельник» освобождается через год-полтора по амнистии. Я таких провожал на волю не один раз.
А одного паренька из Иордании хозяева выкупали, после вынесения смертного приговора, целых три раза. Но он того стоил: красавец-мужчина, обходительный, эрудированный, знал в совершенстве пять или шесть языков, в общем, очень ценный работник. Поэтому он надолго у нас не засиживался. Последний раз, правда, пришлось ему малость задержаться. Как я понял, это было сделано в воспитательных целях, – какие-то он предъявил хозяевам претензии. Но когда курьер от них отказался, освобождение сразу же наступило.
А сколько насильников, наркушников и прочей нечести освобождалось при мне, не отсидев и половины срока – не сосчитать. Единственная категория заключённых, с которой администрация нашего заведения расставалась не охотно – это осуждённые по финансовым искам. Мы были для них неплохим и стабильным источником дохода. На каждого заключённого администрация штата получала ежедневно по сто дирхам от центрального правительства и по сто дирхам из Саудовской Аравии, под патронажем которой находилась эта местность. Реальные же расходы на одного «сидельца» не превышали пяти дирхам в день. Если учесть что на трёх территориях (предварительной, женской и центральной) за решёткой постоянно находилось не менее тысячи человек, то путём не сложным подсчётов можно определить ежедневный доход местного шейха от одного только нашего заведения. Он составлял сумму, несколько превышающую двести тысяч дирхам или семьдесят тысяч долларов США.



