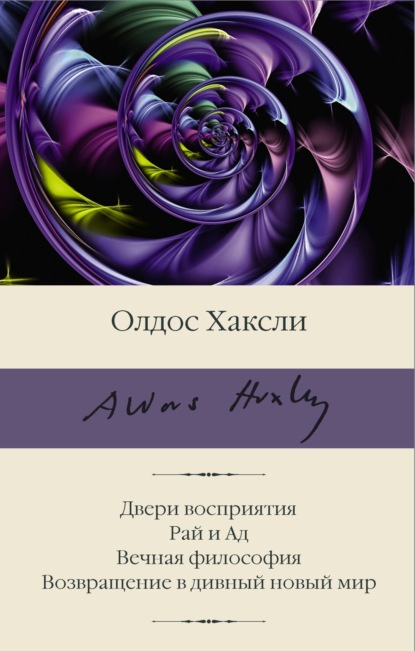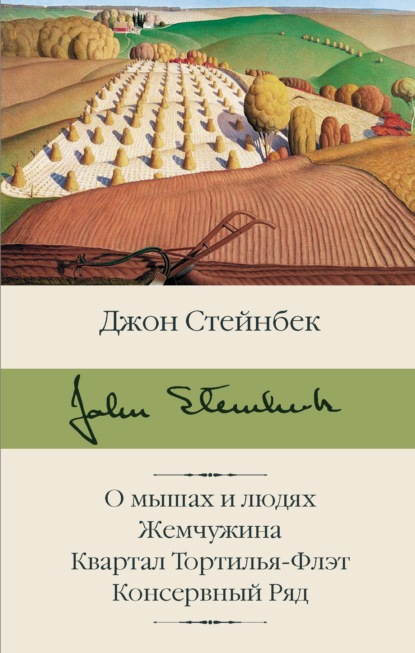Полная версия
Голоса летнего дня. Хлеб по водам
Затем возникли родственники – дяди, тети, кузины и кузены, некогда населявшие его юность. Он почти перезабыл их за все эти долгие годы и с трудом узнавал теперь – выросших, повзрослевших и постаревших. Все они подходили, трясли ему руку, целовали, бормотали соболезнования. «Я вовлечен в некий обряд, где участвуют незнакомцы, – подумал Федров. – Незнакомцы, чьи голоса вдруг всплыли из далекого прошлого, прорезались из тиши забвения и древности».
* * *– Расскажите, каким он был, ваш отец, – попросил раввин. Они сидели в гостиной, в квартире родителей на Риверсайд-драйв. И было это накануне похорон. Раввин должен был провести отпевание и прочитать принятую на еврейских похоронах хвалебную речь. Раввин не был знаком с Израилем. Это был молодой, очень живой человек с ухватками профессионала. Он деловито и сочувственно выразил соболезнования, но Федров был уверен: стоит ему выйти из этой квартиры, и он столь же энергично и деловито примется набрасывать заметки для следующей похоронной речи.
Федров понимал: раввину хочется услышать, что Израиль был истово верующим; что каждое утро молился, надев Йом-Кипур филактерис[27]; что строго соблюдал пост в Йом-Кипур[28]; что ни разу не нарушил порядка приема пищи на еврейскую пасху. Но ничего подобного на самом деле не было. Да, Израиль был евреем, это верно; он гордился теми евреями, что стали знаменитыми в нееврейском мире, и презирал тех, чьи поступки плохо отражались на его народе. Но он редко ходил в синагогу и был слишком скромен по натуре своей, чтобы верить, будто Господь проявляет к нему хоть какой-то интерес.
– Каким был мой отец? – переспросил Федров. И пожал плечами. Кто может ответить на такой вопрос? – Он был очень неплохим кэтчером, – сказал он.
Священник улыбнулся. Священник нового, реформаторского толка, он мог позволить себе улыбнуться, как бы демонстрируя тем самым, что при необходимости любые религиозные идеи можно нести в массы и на современный лад.
– Что же еще?.. – Федров снова пожал плечами. – Он был неудачником. Был беден, трудился всю жизнь, как раб. Ни разу не сказал мне «нет». Даже когда весенними вечерами возвращался с работы вконец вымотанным, всегда находил для меня время. Мы шли на площадку за домом и отрабатывали там подачи – до тех пор, пока не стемнеет. Он в жизни своей никого не обидел. Глупо и слепо верил в то, что все люди добры, любил свою жену, был на войне, провожал на войну меня, делал, что мог… – Федров поднялся. – Извините, раввин, – сказал он. – Спросите у кого-нибудь другого, каким он был, мой отец. Просто постарайтесь сделать так, чтоб ваша завтрашняя речь была короткой и не слишком расстроила присутствующих. Если вам не трудно, конечно.
И он вышел из дома, дошел до ближайшего бара и выпил подряд два виски.
* * *Раввин исполнил все его пожелания. Хвалебная речь заняла всего десять минут – меньше просто не позволяли приличия, и он не пытался выжать из присутствующих слезу. И Федров почувствовал, что этот молодой раввин честно отработал те сто долларов, которые он собирался отдать ему сразу после похорон.
У могилы в Нью-Джерси, где рядом с ямой высилась заранее заготовленная кучка земли, тактично прикрытая от глаз скорбящих куском зеленого брезента, Федров и его брат Луис должны были прочесть молитву о мертвых. Делать это полагалось, когда гроб опускался в могилу. Ни тот ни другой иврита не знали и судорожно пытались вспомнить слова молитвы, которую некогда зубрили по напечатанному в учебнике по английской фонетике отрывку. Все это походило на сдачу экзамена нерадивыми учениками. И когда настал момент, все, что мог припомнить Федров,– это какие-то жалкие обрывки «плача». Но его поразило, как быстро пришли на помощь другие восемь скорбящих, составивших вместе с ним и братом миньян[29], как полагалось по Торе. Они помогли скрыть его невежество. «Боже, – подумал он, – ну какой же из меня еврей?.. Все это просто смешно. И я не верю ни единому произнесенному здесь слову. Он умер, его больше нет. А все остальное – просто театр».
А поскольку все остальное театр, уж лучше бы отца похоронили на Арлингтонском кладбище, где нашли последний приют другие умершие солдаты.
«А когда сам я умру, – продолжал говорить сам с собой Федров, неразборчиво бормоча слова молитвы его предков, – пусть меня лучше кремируют. Тихо, без всяких церемоний. Без единого слова. И пусть развеют мой пепел по ветру. Пусть он будет везде – в тех местах, где я бывал счастлив. На зеленой траве бейсбольного поля в Вермонте. В той постели в нью-йоркской квартирке, где двое девственников впервые познали, что такое любовь. На балконе с видом на крыши Парижа, где как-то вечером сержант в увольнении стоял рядом с прекрасной рыжеволосой американкой. У колыбельки сына, в длинных валах Атлантического океана, где он так часто плавал солнечными летними днями, в нежных, милых сердцу руках жены…
Или же пусть этот пепел попадет в те места, где я бывал несчастлив и в отчаянии. На кухню загородного клуба в Пенсильвании; в карман фартука той злобной ирландской старухи; на широкие ступени деревянной лестницы, по которой дважды за ночь поднималась пьяная девушка в белом платье; на ферму близ Кутана, где в десяти ярдах от него упал, но почему-то не взорвался снаряд; в лагерь Кейнога, где из-за казни двух итальянцев, которых я никогда не видел и о которых не знал, мне впервые довелось почувствовать себя отверженным и одиноким».
У открытой могилы монотонно, нараспев, звучали слова молитвы. И тут вдруг каким-то чудом вспомнились слова совсем другой, которую он много лет назад прочитал в журнале, посвященном путешествиям и туризму. Напечатана она была в статье про Иерусалим. Эту молитву полагалось читать вслух возле Стены Плача, и он вспомнил ее с невероятной ясностью и отчетливостью, словно держал перед собой глянцевую страничку журнала:
По Храму, что был разрушен…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По стенам, что были разбиты…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По нашему утраченному величию…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По нашим великим умершим…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По бесценным камням очага, что сгорели…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По священникам нашим, что оступились…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По царям нашим, что презрели Его…Мы сидим в одиночестве и скорбим.По знаку раввина он бросил поданную ему гвоздику на гроб отца. Все остальные по очереди сделали то же самое. Затем он помог матери сесть в машину. Луис сел рядом с ней. Кортеж медленно двинулся к воротам. Федров обернулся – в последний раз. Могильщики снимали кусок брезента с холмика коричневой земли. «Надо было дать им на чай, – подумал Федров. – Может, тогда они подождали бы, пока мы не выедем за ворота кладбища».
1964 годШел последний иннинг, и Федрову страшно хотелось пить, ведь почти весь день он просидел на солнце. Пробегая мимо скамей к центру поля, Майкл увидел Ли и поздоровался с ней.
– Добрый день, миссис Стэффорд, – вежливо сказал он.
– Привет, чемпион! – откликнулась Ли.
– Найдешь меня в баре «Винни», – сказал Федров сыну. – Приходи туда, как только закончится игра. Отвезу тебя домой.
– О’кей, папуля! – крикнул в ответ Майкл и затрусил дальше, занимать позицию в центре поля.
Федров обернулся к Ли. Она сидела, уперевшись локтями в колени и поставив длинные ноги на спинку нижней скамьи. Поля ее соломенной шляпы затеняли верхнюю часть лица.
– Пива хочешь? – спросил Федров.
– Нет, спасибо, – ответила она.
– Разве тебе не хочется пить?
– Еще как хочется.
– Но только не пива, да?
– Только не с тобой.
– Это еще почему?
– Слишком маленький городок, – ответила Ли и злорадно усмехнулась.
«Опять за свое, – подумал Федров. – Сводит старые счеты, сознательно или бессознательно. Мстит за то, что была отвергнута в сорок седьмом». Память у Ли была долгая, к тому же то был единственный случай в ее жизни, когда ей не удалось удержать мужчину, которого она хотела. И вот время от времени, оставшись наедине с Федровым, она пыталась уколоть его, отомстить за это единственное свое поражение.
– Я же теперь всеми уважаемая матрона, – добавила она. – Или ты не слышал?
Федров поднялся и смотрел на нее сверху вниз.
– Нет, – ответил он, – не слышал.
Она откинула голову. Зеленые глаза смотрели насмешливо.
– Ты чертовски красива, Ли, – пробормотал он. – До сих пор красива. Жду не дождусь дня, когда ты наконец постареешь и подурнеешь.
– Не дождешься, миленький! – ответила она, и на секунду пред ним предстала юная Ли Левинсон из Бронкса.
– Тогда до вечера, – сказал он.
– Смотри, я тебя предупредила. – Она провожала Федрова взглядом до тех пор, пока он не обошел изгородь и не вышел на улицу к машине.
Пиво показалось превосходным на вкус, и Федров быстро опустошил первый бокал, сидя в полутемном и полупустом баре. Заказал второй и стал пить, но уже медленнее, смакуя, в ожидании сына.
Телевизор в баре был включен, шла прямая трансляция матча из Бостона – «Янки» против «Ред сокс». Какое-то время Федров лениво и рассеянно следил за игрой, отмечая разницу между тем, что видел сейчас на экране, и любительской беготней, за которой наблюдал весь день на школьном стадионе.
– Как считаешь, они выиграют знамя[30]? – спросил он у бармена Винни.
– Да они всегда его выигрывают, – ответил Винни. – Ублюдки…
Федров улыбнулся. Винни, человек разумный во всех отношениях, без всякой видимой причины ненавидел постоянных победителей. «А что, если, вернувшись в город, попросить секретаршу забронировать пару мест для меня и Майкла?– подумал Федров.– На все игры чемпионата „Уорлд сириз“[31], как только начнут продавать билеты?..» Ему нравилось обсуждать с сыном матчи – в основном потому, что Майкл пытался быть беспристрастным и хладнокровно оценивал все происходящее на поле. Наверное, в этой чисто мужской атмосфере он казался себе более взрослым. Подчас даже более взрослым, чем все окружающие его мужчины. И детские черты прорывались лишь тогда, когда он начинал восторженно вопить, если его «идол» прорывался к очередной базе или возвращался в «дом». Сам этот факт заставлял Федрова более терпимо относиться к собственным маскам и не слишком расстраиваться, когда они оказывались сброшены.
Впервые Федров взял Майкла на большую игру чемпионата, когда мальчику было шесть. Происходило это на стадионе «Поло-Граундз», «Джайэнтс» играли против «Редз». Команда «Янки» была, конечно, интереснее, но все перевешивал стадион «Поло-Граундз», где сам Бенджамин впервые побывал в возрасте шести лет на своем первом бейсбольном матче. И тоже с отцом. Будучи по сути своей человеком без корней, Федров даже подумал тогда с улыбкой: мы должны сделать это семейной традицией. В семье у них не было знатных предков, которым надо бы родить наследника-мальчика; не было торжественных семейных церемоний, где следовало представить наследника; не было в жизни Федрова ни церкви, ни синагоги, ни культа, в которые бы он свято верил и считал бы себя и своего сына неотъемлемой частью трехтысячелетнего мифа. Не было у него и бессчетных акров земли, которую бы любовно возделывали на протяжении столетий люди одной с ним крови; не было звучной фамилии, которой мог бы гордиться его шестилетний сын. Не мог же он привезти своего сына в ту скобяную лавку, где в 1927 году разорился его отец, и сказать: «Вот здесь твои предки, погибая, хранили свою честь». Он не мог отвезти своего сына в Россию и найти там город, где родился и вырос дедушка, его собственный отец, и прочесть его имя на мемориальной доске, прикрепленной к дому, где произошло это событие. Он даже не знал названия городка, не знал, разрушен ли он немцами до основания во время войны или же уцелел. Не мог он отвезти своего сына и в Ньюарк, место, где родился он сам, Бенджамин Федров. Потому что через четыре месяца после его рождения семья переехала, и он не знал ни названия улицы, ни номера дома, и как-то в голову не пришло спросить. Правда, мать рассказывала, что родился он на кухонном столе, но сомнительно, чтобы через столько лет стол этот можно было найти и показать сыну. Итак, за неимением иных «племенных» принадлежностей Федров решил взять своего сына на «Поло-Граундз» – лишь только потому, что, когда самому ему было шесть, его отец тоже возил его в «Поло-Граундз».
В те годы, сразу после окончания Первой мировой, в бейсболе господствовали «Янки» и «Джайэнтс». Именно они чаще всего сражались на этом поле, и именно их игру увидел в тот день маленький Бенджамин. Он плохо помнил, что именно видел на поле, куда больше интересовали его в тот момент сосиски с булочкой, которые тогда прямо на трибуне купил ему отец. Но сам отец еще долгие годы спустя помнил, какой тогда был счет. И как-то раз, будучи уже взрослым и наводя порядок на чердаке, Федров нашел там смятую желтую карточку. На ней рукой отца были тщательно помечены все пробежки, удары, промахи, ауты, остановки на пути к первой базе, замены – словом, здесь в деталях была расписана вся схема игры. Чтобы позже, долгими зимними вечерами, можно было напомнить мужчинам в доме, какие подвиги и великие деяния свершались летом на бейсбольном поле. Просмотрев все написанное на этом хрупком и ломком куске желтого картона, сохранившемся со времен детства, Федров вдруг понял, что видел всех героев того дня – Бейба Рута, филдера правого поля, раннера Бейкера, Пекинпа, который выступал первым питчером, Уэйта Хойта и прочих. Тогда победили «Янки», это Федров тоже вспомнил.
Никто больше не играл в бейсбол на стадионе «Поло-Граундз». Все тамошние сооружения снесли, и на их месте возвели целый жилой квартал.
Нет, были, конечно, и другие семейные традиции, которые мог унаследовать его сын. Отправляться на войну, к примеру. А он бы провожал его на войну, как в свое время провожал его самого отец. Ведь войны случаются с интервалами приблизительно в двадцать пять лет. Сейчас Майклу тринадцать. Стало быть, лет через одиннадцать-двенадцать ритуал можно повторить. И тогда получится, что уже целых три поколения мужчин из одной семьи отправлялись через океан воевать. Что, несомненно, можно причислить к респектабельной и даже почти древней традиции в такой молодой стране, как Америка.
Путешествие на поля сражений, где в свое время отличились предки,– это тоже явление, которое с некоторой долей корректировки можно отнести к традиции. Хотя самому Федрову так и не удалось побывать в Аргонне, где сражался его отец. А побывав с женой и сыном в 1960 году в Лондоне, он не стал искать того дома на Пэлл-Мэлл, где занимался любовью с тощей девчонкой из Британской информационной службы. Однажды в трех домах от них взорвалась бомба. В то время сам он был капитаном-пехотинцем и находился на задании, и если бы тогда осколок бомбы, выбивший окно в спальне, где лежал он с той девушкой, ранил Бенджамина, его наградили бы медалью «Пурпурное сердце»[32]. Ведь он как-никак находился на задании, а это во время войны приравнивается к боевым действиям. Так что тогда, на Пэлл-Мэлл, он теоретически находился на поле битвы и вел на нем собственное сражение.
Не поехал он и на побережье, где происходила высадка американского десанта, поскольку дождь зарядил на целую неделю. Не показал сыну кладбища, на котором похоронен командир их взвода. Потому что они находились на каникулах и Пегги считала, что детей еще рано и вредно приучать к мысли о неизбежности смерти. Города, в которых он побывал в 1944-м, не представляли какого-либо исторического интереса, находились в стороне от проторенных туристами троп и маршрутов. Да и потом, куда как веселее и приятнее купаться и загорать на скалистых пляжах Антиба. В отпуск они ездили вместе с Ли Стэффорд, ее мужем и детьми, так что вряд ли уместным оказалось бы сентиментальное путешествие на самый последний этаж дома, что находился прямо за площадью Пале-Бурбон, где они с Ли жили вместе во время его краткосрочного увольнения. Это была совсем другого рода традиция.
Из телевизора послышался рев толпы, и Федров поднял голову. Бэттер из команды «Янки» послал длинный пас на левую сторону поля. Мяч ударился об изгородь, отскочил, бостонский левый филдер ударил по нему и промахнулся, и, пока гнался за улетевшим мячом, «Янки» благополучно оказались на третьей базе.
– Мы видим на табло знак ошибки, – прозвучал голос комментатора. – Судья, подсчитывающий очки, считает это ошибкой!..
«Ошибка, – подумал Федров. – Ошибка… Вознаграждение за чрезмерное старание. Филдер бежал что есть сил, использовал весь свой талант и опыт, физические и душевные силы. А в результате вышла ошибка».
Он видел, как возвращается на свою позицию левый филдер, идет, низко опустив голову. И вспомнил о сыне, который точно так же брел по опустевшей части поля. Исход всех игр почти всегда решается на открытом участке, открытом прежде всего взору судьи, даже если это происходит на кочковатом школьном поле сонным субботним днем, где лишь игроки да горстка зрителей могут видеть и сказать всю правду. Или промолчать. Вот так. Поднять большие пальцы вверх или опустить вниз.
Он знал, что, пока команда его сына впереди, они ведут с преимуществом в один выигранный мяч. И от души надеялся, что Майкл, как центровой филдер, не подведет свою команду ни при каких обстоятельствах. Но тут он вернулся мыслями к темной стороне всех перипетий на игровых площадках, какие только могут поджидать мужчину. Федрову вспомнился свой позорный промах на стадионе лагеря Кейнога и слова Брайанта: «И завтра ты тоже не играешь. Ты человек, приносящий неудачу, Федров».
1946 годС тех пор Федров лишь однажды видел Брайанта. Произошло это после войны, в полупустом вагоне метро, направлявшемся к центру. Брайант сидел один, на нем было темное пальто с бархатным воротником, на голове – совершенно дурацкий старомодный котелок. Ну точь-в-точь почтеннейший член городской управы или вице-президент маленького американского банка, которого привечали и принимали совсем не те люди во время короткого визита в Лондон. При этом следовало отметить, что выглядел Брайант удивительно молодо, похоже, находился в неплохой форме. Некоторое время Федров колебался, решая, подойти к нему или нет. Но потом устыдился своих сомнений, встал и подошел к сидящему напротив Брайанту со словами:
– Привет, Дейв.
Брайант поднял на него глаза и, судя по всему, не узнал. Глаза у него были скучные, покрасневшие. Федров уловил запах перегара.
– Привет, – сказал Брайант после паузы.
– Я Бенджамин Федров, – сказал Федров. – Из лагеря. Помнишь?
– О да, конечно, ясное дело, помню, Бен! – Брайант встал и протянул ему руку. «Второе рукопожатие в нашей жизни», – мысленно отметил Бенджамин. – Конечно, помню! – повторил Брайант. – Добрый старина Трис Спикер. – И он улыбнулся во весь рот, довольный, что память не подвела.
Ехать Федрову было далеко, и они разговорились, вспоминая 1927 год и старые добрые времена.
– А тот парень, Кон, – сказал Брайант. Прозвучало это как намек, что уж Кона-то он узнал бы непременно и сразу, хоть через пятьдесят лет. – Исключительный был человек, – торжественно и многозначительно произнес он. – Исключительный во всех отношениях. Жаль, что с ним такое случилось.
– А что с ним случилось? – спросил Федров.
– Как, ты разве не знаешь? – В голосе Брайанта звучало неподдельное изумление. Выходило, что любой, знавший Кона, просто обязан был знать о последних подвигах этого героя.
– Нет, – ответил Федров. – С того самого лета ни разу о нем не слышал.
– Поразительно… – пробормотал Брайант. – Я думал, все знают. Он погиб во время войны. В сороковом.
– В сороковом? – удивился Федров. – Но мы же вступили в войну только в сорок первом.
– Так он служил в ВВС Великобритании. Летал на собственном самолете. Я думал, ты знаешь, – сказал Брайант.
– Нет, не знал.
– Вот так-то. Я и сам много раз с ним летал. На уик-энды, на разные там каникулы. По всей стране. На озеро Джордж[33]. К его дяде в Ки-Уэст… Господи, ну и славные то были времена! А как только началась война, он отправился в Канаду и там записался в ВВС Великобритании. Ну ты же знал Кона, он просто не мог оставаться в стороне. И погиб. Прямо над Лондоном.
Какое-то время они молчали, вспоминая Кона. То, что рассказал Брайант, теперь казалось Федрову предопределенным. Да, именно так должна была сложиться судьба Кона. С его-то характером, черты которого, очевидно, лишь усугубились с возрастом, он наверняка считал войну еще одним спортивным событием, в котором мог отличиться без особых усилий. Еще одной песенкой «Прощай, Банни!», очередными каникулами в новом, неизвестном городе…
– Ну и умен же был парень! – воскликнул Брайант. – Помнишь песню, которую он сочинил? Ну, об этих… как их… Сакко и Ванцетти? – И Брайант замурлыкал мелодию, вспоминая слова. – А уж какой весельчак был, просто на редкость! Да, разносторонний был парень. Иначе не скажешь, разносторонний. Слушай, как она там начиналась? Не помнишь?
– Нет, – ответил Федров. Он уже жалел, что подошел к Брайану. Ему не хотелось больше слышать о Коне. – Я во время войны тоже был в Англии, – сказал он. Просто для того, чтобы сменить тему.
– Правда? – равнодушно откликнулся Брайант.
– А ты? – спросил Федров. – Где был ты?
– В Вашингтоне, – мрачно ответил Брайант тем тоном, каким сильные и неразговорчивые мужчины привыкли говорить о жертвах, принесенных ими на алтарь отечества, и опасностях, которые подстерегали их на этом пути.
Федров едва сдержал улыбку. «Ах, Брайант, Брайант, – подумал он. – Ты неисправим, ты от рождения призван быть на третьих ролях».
– Извини, – сказал он, – мне выходить. – И торопливо выскочил из вагона, притворяясь, будто боится, что двери захлопнутся прямо у него перед носом. И все это – с одной лишь целью избежать третьего рукопожатия…
«Да что там говорить! Когда уже два аута и я стою в круге питчера,– из прохладных сумерек, опустившихся на голубые горы, вдруг прорезался этот умный, один из самых убедительных голов,– и мяч уже выброшен к центру поля, я даже не оглядываюсь, даже знать не желаю, что там происходит. Просто бросаю свою перчатку и спокойненько так иду к скамье. Потому что знаю: там Бенни, он на месте, а когда Бенни на месте, то мяч будет взят…»
«Я взял ее вишенку под вишневым деревом, в Лейквуде, штат Нью-Джерси».
«В ходе выполнения этого и других заданий мы потеряли в общей сложности двадцать семь наших самолетов».
Дверь бара отворилась, вошел Майкл, размахивая связанными за шнурки шиповками и перчаткой-ловушкой. Теперь он был в теннисных туфлях.
– Привет, – сказал он, усаживаясь на табурет рядом с отцом. – Угостишь кокой?
– Одну коку, Винни, – сказал Федров бармену. – Ну, как закончилась игра?
– Мы победили, – ответил Майкл.
– Произошло что-нибудь выдающееся в последнем иннинге?
– Да так, небольшая неразбериха. Пришлось маленько понервничать. – Майкл жадно отпил из бокала, который поставил перед ним Винни. – У них было два человека на базе, и тут вмешался Серрацци… – Майкл снова отпил глоток.
– И что же он сделал? – спросил Федров.
– Врезал изо всей силы! Господи, ну ты же знаешь, как Серрацци может врезать по мячу! – ответил Майкл. – Правда, на сей раз он отбил его прямо Бадди Горовицу, на первую базу, и Бадди пришлось сделать всего два каких-то шага, и готово, игра сделана! Скажи, пап, а ты не против, если я с тобой не поеду, а? Энди Робертс пригласил всех к себе, они собираются сыграть в волейбол. Дорогу домой ты ведь знаешь, верно, папуля?
– Дорогу домой знаю, это правда, – ответил Федров. – И не советую слишком умничать.
Майкл усмехнулся и вскочил с табурета.
– Спасибо за коку! – Он направился было к выходу, резко остановился. – Ты не против, если я закину это барахлишко тебе в багажник? А, пап? – И Майкл взмахнул связанными шнурками шиповками. Прикрепленная к ним на петле, там же болталась перчатка.
– Дай сюда, – сказал Федров.
Майкл подошел и положил шиповки и перчатку на табурет.
– Добрый старый папуля… – протянул он. – Ладно, я побежал. Увидимся вечером, за обедом.
– Ну а чем ты отличился в этом последнем иннинге? – спросил Федров. Команда сына победила, этого было достаточно, чтоб не вдаваться в подробности, но ему хотелось лишние полминуты полюбоваться молодым и таким прекрасным лицом сына.
– Перехватил одну подачу, – небрежно отмахнулся Майкл и снова двинулся к выходу. – Ну и отбросил мяч на вторую базу, ничего особенного. – Внезапно на лице его возникло хитроватое и насмешливое выражение. – Ничего такого зрелищного, в отличие от тебя, – добавил он. Голос звучал по-взрослому холодно.
– Что ты хочешь этим сказать? – недоуменно спросил Федров. Он не понимал.
– Да о том, как ты поймал тот мяч, – ответил Майкл. – Голой рукой. А потом раскланялся в ответ на восторги и аплодисменты. – В голосе его слышалось явное неодобрение.
– Ну и что в этом плохого? – спросил Федров.
– Сам знаешь, – ответил Майкл. – Не мне тебе говорить.