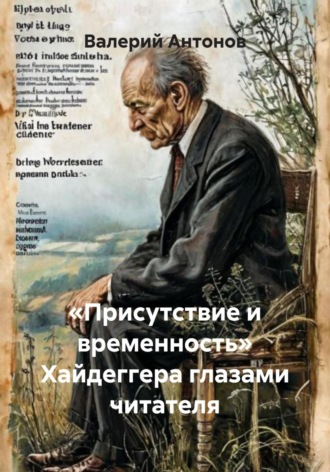
Полная версия
«Присутствие и временность» Хайдеггера глазами читателя
Недостаточность герменевтической ситуации, из которой вырос предыдущий анализ Dasein, должна быть преодолена. С учетом необходимого «задела» (Vorhabe) для целостного Dasein, мы должны спросить: может ли это сущее, как экзистирующее, вообще стать доступным в своей целостности?
Кажущиеся препятствия: Кажется, что существуют веские причины, говорящие о невозможности такой задачи, и коренятся они в самой бытийной конституции Dasein.
· Противоречие в структуре: Возможному бытию-целым этого сущего, по всей видимости, противоречит забота (Sorge), образующая целостность структурного целого Dasein. Ее первичный момент – «забегание-вперед» (Sich-vorweg) – означает: Dasein существует ради себя самого. «Пока оно есть», вплоть до своего конца, оно относится к своей возможности бытия. Даже когда ему уже нечего ждать «впереди» и оно «подвело все свои итоги», его бытие все еще определено «забеганием-вперед». Даже безнадежность, например, не отрывает Dasein от его возможностей, а является лишь особым модусом бытия к этим возможностям. Эта структура заботы недвусмысленно говорит, что в Dasein всегда есть что-то «еще не» (aussteht), какая-то возможность себя самой, еще не ставшая «действительной». Следовательно, в сущности основной конституции Dasein заложена постоянная незавершенность. «Не-целость» означает незакрытую возможность бытия.
· Парадокс завершения: Как только Dasein «существует» так, что у него абсолютно не остается ничего «впереди», то оно в тот же миг становится «не-при-сутствием» (Nicht-mehr-da-sein). Устранение этой незавершенности означает уничтожение его бытия. Пока Dasein есть как сущее, оно никогда не достигает своей «полноты». Но если оно ее обретает, то это обретение оборачивается полной утратой бытия-в-мире. Как сущее, оно тогда больше не может быть experiencéd (стало быть, познано).
Вывод о невозможности? Причина невозможности онтически (в опыте) encounter Dasein как целое сущее и, следовательно, онтологически определить его целостность, кроется не в несовершенстве нашей познавательной способности. Препятствие лежит на стороне бытия этого сущего. То, что вообще не может быть (как то, что мы пытаемся постичь в опыте), по самому своему принципу уклоняется от возможности быть experiencéd. Не является ли тогда задача онтологического определения целостности бытия Dasein безнадежным предприятием?
Критический вопрос к самому себе: Однако Хайдеггер задается вопросом: а верны ли наши выводы? Не заключили ли мы о невозможности постижения целого Dasein исходя из чисто формальной аргументации? Не подменили ли мы невольно Dasein наличным сущим (Vorhandenes), которому постоянно приписывается «еще-не-наличное»? Схватили ли мы «еще-не-бытие» и «забегание-вперед» в подлинном экзистенциальном смысле? Говорили ли мы о «конце» и «целостности», сообразуясь с феноменом Dasein? Имело ли выражение «смерть» биологическое или экзистенциально-онтологическое значение? И действительно ли исчерпаны все возможности сделать Dasein доступным в его целостности?
Новая задача: Эти вопросы требуют ответа, прежде чем можно будет отбросить проблему целостности Dasein как неразрешимую. Вопрос о целостности Dasein – как экзистенциальный (о возможной способности-быть-целым), так и экзистенциальный (о конституции бытия «конца» и «целостности») – содержит в себе задачу позитивного анализа до сих пор откладывавшихся экзистенциальных феноменов. В центре этих рассмотрений стоит онтологическая характеристика бытия-к-концу Dasein и обретение экзистенциального понятия смерти.
Разбор и трактовка для читателяДанный параграф является блестящей иллюстрацией метода Хайдеггера. Автор не просто формулирует проблему, но прежде драматизирует её, демонстрируя кажущуюся неразрешимость, – и лишь затем совершает радикальный поворот в её осмыслении.
1. Диагноз проблемы: Хайдеггер формулирует главное апорию (логическое затруднение), вытекающую из структуры заботы:
o Структура: Dasein по своей сути есть «забегание-вперед», проектирование себя на свои возможности. Оно всегда еще не что-то.
o Целостность: Целое – это нечто завершенное, законченное, в чем больше нет «еще не».
o Вывод: Следовательно, Dasein может стать целым только в тот момент, когда оно перестает быть Dasein, то есть умирает. Но тогда его уже нет, и постичь его как целое невозможно. Мы оказываемся в тупике.
2. Выявление подмены: Здесь ключевой момент. Хайдеггер задается вопросом: а не основана ли эта апория на скрытой подмене онтологических регистров? Мы невольно мыслим Dasein по аналогии с другим сущим – с наличным предметом (Vorhandenes), например, со стулом. Стул цел, когда все его части на месте. Его «еще-не» – это отсутствующая деталь, которую можно добавить. Но Dasein – это не стул! Его «еще-не» – это не недостающая деталь, а его собственный способ бытия – его будущее, его возможность. Мы пытаемся измерить экзистенцию категориями presence-at-hand.
3. Поворот к экзистенциальному пониманию: Весь последующий анализ (§§ 47-53) будет направлен на то, чтобы помыслить конец (смерть) и целостность Dasein не как наличное состояние, а как экзистенциал – как способ бытия, который принадлежит Dasein пока оно есть. Смерть – это не событие в конце жизни, а то, что определяет жизнь изнутри, как ее самая собственная, неустранимая и неизбежная возможность. Целостность, таким образом, – это не сумма частей, а определенный модус существования, при котором Dasein полностью принимает свою конечность и живет в проекте на эту свою крайнюю возможность.
4. Подготовка почвы: Этот параграф очищает поле для позитивного анализа. Хайдеггер показывает, почему обыденный, биологический или объективный взгляд на смерть беспомощен для онтологии Dasein. Он готовит нас к радикально иному понятию: бытие-к-смерти (Sein-zum-Tode), которое будет раскрыто далее.
Итог для читателя: § 46 – это не констатация невозможности, а, наоборот, жест, открывающий возможность. Он показывает, что проблема целостности не может быть решена в рамках прежней, «наличной» оптики. Требуется смена горизонта: понять смерть и целостность не как внешние факты, а как внутренние, конститутивные моменты самого экзистирующего Dasein. Это программа для всего последующего анализа, который ведет к открытию временности как смысла заботы.
§ 47. Почему смерть Другого не может раскрыть целостность моего собственного Dasein.Этот параграф является критическим поворотным пунктом в анализе Хайдеггером смерти. Если мы, как читатели, пытаемся понять целостность нашего собственного бытия (Dasein) через его конец – смерть, – то возникает соблазн: а почему бы не посмотреть на смерть других людей? Ведь мою собственную смерть я пережить не могу, а чужую – наблюдаю со стороны. Хайдеггер методично и беспощадно разбирает эту идею и показывает, почему она ошибочна и даже фундаментально заблуждается относительно самой сути Dasein.
Ключевой тезис параграфа:
Опыт смерти Другого не может служить заменой (Ersatzthema) для экзистенциально-онтологического понимания моей собственной смерти как модуса временности, конституирующего целостность моего Dasein.
Основные шаги аргументации Хайдеггера:
Когда умирает другой человек, мы сталкиваемся не с его бытием-к-смерти, а с его исчезновением. Мы наблюдаем переход от Dasein (бытия-в-мире) к «уже-не-при-сутствию» (Nichtmehrdasein). То, что остается – это тело, труп (Leiche). Он может быть объектом научного изучения (патологоанатомии) или заботы (погребение, культ предков). Но ни то, ни другое не схватывает феномен смерти как экзистенциала.1. Феноменологическое описание смерти Другого: что мы на самом деле видим? · Труп как «подручное» и «наличное»: Хайдеггер показывает, что даже мертвое тело – не просто вещь, как камень (чисто наличное), и не просто инструмент, как молоток (подручное). С ним связан особый модус заботы – ритуальный, почтительный, траурный. Но это забота о нем, а не понимание того, что он пережил как умирающее существо.
· Мы «присутствуем при», но не переживаем умирание Другого: Мы можем быть рядом с умирающим, сочувствовать ему, но его собственный переход в небытие, его утрату мира мы принципиально не можем испытать. Мы страдаем от утраты для нас, а не от той утраты, которую «претерпевает» он сам. «Мы испытываем не в подлинном смысле смерть другого, а всегда лишь самое большее „присутствуем при“».
Это ядро аргумента. В повседневной жизни одно Dasein легко может подменить другое: коллега может сделать твою работу, друг – отнести за тебя документы. Эта «заменимость» конституирует наше повседневное бытие-друг-с-другом (Miteinandersein). Мы часто и есть то, что мы делаем («man ist» das, was man betreibt).2. Критика «заменимости» (Vertretbarkeit) Dasein в смерти Но смерть – это та возможность, где всякая заменимость рушится.
· Никто не может умереть вместо меня. Кто-то может пойти на смерть ради другого (например, солдат, прикрывающий товарища), но это значит пожертвовать собой в конкретном деле. Это не отменяет факта, что другому все равно предстоит его собственная смерть. Он не «передал» ее тому, кто погиб за него.
· Смерть по сути своей «всегда моя» (je meinig). Она – самая собственная (eigenste) возможность бытия, в которой речь идет о бытии самого Dasein. Она радикально индивидуализирует меня, сбрасывая с меня условности «Man».
Цель Хайдеггера – не описать биологическую смерть, а понять, как смерть как экзистенциал конституирует целостность Dasein при жизни. Эта целостность – не сумма прожитых лет, а способ бытия, когда я, будучи конечным, проектирую себя на свою собственную возможность – смерть. Это придает моему существованию подлинность (Eigentlichkeit) и единство.3. Онтологический вывод: почему это важно для понимания целостности Dasein Пытаться понять это, глядя на смерть Другого, – значит подменять экзистенциальный анализ (касающийся моего бытия) онтическим наблюдением (касающимся сущего). Мы видим факт смерти другого человека, но упускаем значение смерти для моего собственного бытия.
Таким образом, анализ смерти Другого не достигает цели, но зато он негативно подтверждает главный тезис: подлинный смысл смерти и целостности Dasein можно обнаружить только через анализ моего собственного бытия-к-смерти.
Трактовки и интерпретации1. Зарубежные исследователи:
· Ханна Арендт (ученица Хайдеггера) в работе «The Human Condition» развивает идею, что рождение и смерть – это предельные условия человеческого существования, которые не могут быть полностью опосредованы публичной сферой. Смерть – это возврат к «тьме сердца», уход из общего мира, что перекликается с хайдеггеровской «незаменимостью» смерти.
· Эммануэль Левинас в своей работе «Время и Другой» вступает в полемику с Хайдеггером. Для Левинаса смерть – это радикально Другое, что приходит извне, а не моя собственнейшая возможность. Встреча с лицом Другого и его смертельной уязвимостью является для меня этическим императивом, а не онтологической структурой моего собственного бытия. Он критикует Хайдеггера за чрезмерный «эгоцентризм» в анализе смерти.
· Поль Рикёр в книге «Время и рассказ» обсуждает, как нарратив (повествование) пытается опосредовать нашу конечность. История жизни, рассказанная другим или самим собой, – это попытка придать целостность, которую сама жизнь не может дать эмпирически. Это можно рассматривать как ответ на проблему, поставленную Хайдеггером: как мы можем осмыслить целостность, которую никогда не можем пережить эмпирически.
Библиография:· Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
· Lévinas, E. (1947). Le Temps et l'Autre. Montpellier: Fata Morgana. (Левинас Э. Время и другой. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998.)
· Ricoeur, P. (1983). Temps et Récit, Tome I. Paris: Éditions du Seuil. (Рикёр П. Время и рассказ. Том 1. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2000.)
2. Отечественные исследователи:
· Владимир Бибихин в своем курсе лекций «Мартин Хайдеггер: „Бытие и время“» (Бибихин В.В. Дело Хайдеггера. СПб.: Наука, 2015) подробно разбирает этот параграф. Он подчеркивает, что Хайдеггер показывает не «что такое смерть», а «как она есть для нас». Опыт смерти Другого – это опыт «обездоленности», утраты, который лишь оттеняет невозможность прямого опыта собственной смерти и ее уникальность.
· Михаил Маяцкий в своих работах (напр., «Бой и бытие: молодой Хайдеггер и его время») обращает внимание на социально-исторический контекст. Анализ «заменимости» можно увидеть как критику обезличенного общества, где все функции могут быть делегированы, кроме самой экзистенциальной основы – собственной смерти.
· Алексей Черняков в книге «Онтология времени» (Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001) анализирует связь временности и конечности. Он показывает, что тезис о «незаменимости» смерти является прямым следствием понимания времени Хайдеггером не как объективного контейнера, а как внутреннего горизонта экзистенции.
Библиография:
· Бибихин В.В. Дело Хайдеггера. – СПб.: Наука, 2015.
· Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.
· Маяцкий М.А. Бой и бытие: молодой Хайдеггер и его время // Логос. – 2013. – № 1 (91). – С. 153–186.
Заключение для читателя
Таким образом, § 47 – это не просто рассуждение о смерти других, а ключевой негативный аргумент, который заставляет нас вернуться к самим себе. Отвергнув легкий путь понимания через наблюдение, Хайдеггер загоняет нас (читателей) в экзистенциальный тупик: целостность собственного бытия нельзя увидеть со стороны, ее можно только пред-принять (vornehmen) в акте решимости (Entschlossenheit) перед лицом собственной смерти. Это и есть модус подлинной временности: быть целым не в конце, а в процессе бытия, постоянно простираясь от своего рождения к своей смерти как к предельной возможности. Смерть Другого – это трагическое напоминание о конечности, но не источник ее понимания. Ее источник – только в моем собственном бытии-к-смерти.
§48 «Недостача, конец и целостность»: Взгляд изнутри DaseinКлючевая задача параграфа: Понять, может ли Dasein как целое быть понято через его «конец» (смерть), и если да, то как. Хайдеггер сразу предупреждает: это сложно, потому что для полного онтологического анализа конца и целостности нам уже нужно знать то, что мы как раз ищем – смысл бытия как такового. Поэтому здесь он делает более скромный шаг: он исследует, какие привычные нам понятия конца и целостности не подходят для Dasein, чтобы очистить путь для его собственного, экзистенциального понятия.
Шаг 1: Почему Dasein – это не «сумма», которая ждет пополнения (критика «Ausstand»)
Я, как Dasein, всегда нахожусь в состоянии «еще-не»: я еще не осуществил свои возможности, еще не стал тем, кем могу быть. Смерть – это предельное «еще-не». Возникает соблазн мыслить это по аналогии с «недостачей» (Ausstand).
· Что такое Ausstand? Это то, что принадлежит целому, но пока отсутствует. Классический пример Хайдеггера: долг. Допустим, вам должны 100 евро и возвращают 30. Остальные 70 – это «Ausstand». Они «принадлежат» всей сумме, но их «еще нет» в наличии. Когда долг полностью возвращен, недостача ликвидирована, сумма стала «целой». Целое здесь – это простая сумма (Summe) частей. Бытие таких вещей – присутствие (Vorhandenheit) или подручность (Zuhandenheit).
· Почему это НЕ работает для Dasein? Мое «еще-не» (например, моя будущая профессия, моя смерть) – это не недостающая монета, которую можно добавить к уже имеющимся. Я не становлюсь «целым» в момент смерти, как сумма становится целой при доплате. Напротив, в этот момент меня уже нет. Мое бытие – это не сумма фактов, а проект, становление. Я уже всегда есть мое «еще-не». Моя будущая возможность (стать врачом) – это не что-то внешнее, чего мне не хватает, а то, что определяет мое настоящее бытие прямо сейчас (я учусь, практикуюсь). Я есмь это свое «еще-не».
Шаг 2: Почему Dasein – это не плод, который созревает (критика «Reife»)
Второй соблазн – pensar смерть как «созревание» (Reife), как конец процесса, который делает вещь завершенной.
· Пример с фруктом: Незрелый плод «есть» свое «еще-не» (зрелость). Он не получает зрелость извне, а приносит себя к ней. Здесь «еще-не» уже не внешняя недостача, а внутренний конститутивный элемент его бытия. Это уже ближе к Dasein.
· Почему и это НЕ работает? Потому что смерть – не есть «зрелость» или «полнота» Dasein'а.
o Со смертью мои возможности не «реализуются» до конца, а, наоборот, отнимаются у меня. Я их больше не могу забегать вперед.
o Dasein часто умирает «незрелым», «растраченным», «незавершенным». Смерть не гарантирует полноты.
o Созревание – это конец для присутствующего существа (плода). Его бытие после созревания меняется, но он продолжает присутствовать. Смерть Dasein'а – это не изменение его способа бытия, а конец самого бытия-в-мире.
Шаг 3: Прорыв к экзистенциальному понятию: Бытие-к-концу
Отбросив все негодные аналогии (долг, сумма, созревание, исчезновение, завершенность подручной вещи), Хайдеггер делает ключевой вывод:
Смерть – это не событие «в конце» жизни. Смерть есть способ бытия Dasein'а.
Как только я начинаю существовать, я уже нахожусь в отношении к своей смерти. Я не «приду» к смерти, я уже есмь к ней направлен. Это и есть «бытие-к-смерти» (Sein-zum-Tode).
· Смерть как конец означает не «бытие-в-конце» (Zu-Ende-sein), а «бытие-к-концу» (Sein-zum-Ende).
· Это фундаментальная структура моего существования. Я существую, понимая (пусть и неявно), что мое бытие конечно, и это понимание определяет все мои проекты и решения. Моя временность оказывается конечной временностью.
Вывод для читателя, видящего временность: Вся экзистенциальная структура Dasein'а (забота, вина, решимость) пронизана этой конечностью. Временность Dasein'а есть изначально временность, устремленная к собственному концу. Целостность Dasein'а – это не статичная сумма частей, а динамическое, длящееся бытие-целым-в-становлении, которое обретает свою подлинную возможность лишь через осознанное принятие своей конечности (бытия-к-смерти). Только исходя из этого, можно понять, как Dasein может быть целым, несмотря на постоянное «еще-не».
Трактовки и библиографические источники
1. Ключевая интерпретация: Смерть и временность
· Трактовка: Основная мысль параграфа – что смерть не биологическое событие, а конститутивный элемент экзистенциальной временности. Dasein временно не потому, что оно «протекает во времени», а потому что его бытие есть саморастягивание между рождением и смертью. Будущее как забегание-вперед возможно только потому, что оно забегает к собственному концу.
· Источники:
o William Blattner. Heidegger's Temporal Idealism. – Cambridge University Press, 1999. – Блаттнер подробно разбирает, как временность, и особенно будущее, определяемое бытием-к-смерти, формирует горизонт для понимания бытия у Хайдеггера.
o Joanna Hodge. Heidegger and Ethics. – Routledge, 1995. – Ходж показывает, как бытие-к-смерти высвобождает Dasein из власти «Man» и делает возможным подлинное, ответственное существование.
2. Критика метафизических понятий целостности
· Трактовка: Хайдеггер проводит деконструкцию традиционных западных понятий целого (целое как сумма частей, целое как завершенная энтелехия). Он показывает, что они укоренены в онтологии присутствия (Vorhandenheit) и неприменимы к экзистенции.
· Источники:
o Jacques Derrida. Aporias. – Stanford University Press, 1993. – Деррида прямо отталкивается от этого параграфа, анализируя апории (безвыходные противоречия) понятия «конца» и «смерти» у Хайдеггера, углубляя его критику.
o Сергей Николаевич Братусь. «Парадокс иерархии целостности» (в различных работах по психологии личности). – Отечественный автор, который, хотя и не комментирует прямо Хайдеггера, развивает идеи о том, что целостность личности – это не завершенность, а постоянное становление и устремленность к смыслу, что очень близко хайдеггеровской мысли.
3. Отечественные интерпретации:
· Вадим Валерьянович Бибихин. Хайдеггер: Введение в философию (лекции). – Его лекции – один из лучших путей вхождения в мыслительный мир Хайдеггера для русскоязычного читателя. Бибихин мастерски объясняет, почему «Dasein никогда не бывает целым как предмет», и как его целостность ухватывается в решимости.
· Пиама Павловна Гайденко. Экзистенциализм и проблема культуры. – М.: Высшая школа, 1963. – Классическая работа, помещающая анализ смерти у Хайдеггера в broader контекст экзистенциальной философии и показывающая его связь с проблемой времени.
· Михаил Михайлович Бахтин. К философии поступка. – Хотя Бахтин работает в другой парадигме, его идея о том, что личность обретает свою целостность не в себе самой, а в событии-поступке, отвечающем на другого, представляет интересный диалог с хайдеггеровской идеей целостности через бытие-к-концу.
Таким образом, §48 – это ключевой поворотный пункт, где Хайдеггер, очистив поле от неподходящих понятий, готовится позитивно раскрыть связь заботы, смерти и временности, что и станет главной темой следующих разделов «Бытия и времени».
§49 «Разграничение экзистенциального анализа смерти от других возможных интерпретаций этого феномена»: Взгляд изнутри Dasein.Ключевая задача параграфа: Четко очертить границы того, что МОЖЕТ и чего НЕ МОЖЕТ дать экзистенциальный анализ смерти. Хайдеггер хочет избежать путаницы и показать, что его подход – фундаментальный и методологически первичный по отношению ко всем другим (биологии, психологии, теологии), но при этом он не подменяет их и не дает «экзистенциальных рецептов» для жизни.
Шаг 1: Что экзистенциальный анализ НЕ делает (и не должен делать)
Я, как читатель, понимаю, что Хайдеггер здесь проводит жесткие методологические границы. Его анализ – это не про:
1. Биологическую смерть («Verenden» – оканчиваться, умирать как организм): Он признает, что Dasein как живой организм подчиняется биологическим законам. Но это – лишь один аспект, причем не самый важный. Смерть как прекращение жизненных функций – это конец жизни как процесса, но не конец экзистенции как понимающего бытия. Он вводит термин «Ableben» (отживание, кончина) для обозначения этого биологического аспекта смерти Dasein'а. Важный вывод: «Dasein никогда не просто "оканчивается" (verendet nie)». Его смерть всегда больше, чем биологический факт.
2. Психологию смерти: Изучение переживаний умирающего человека, страха смерти, «типологии» смертей – все это, по Хайдеггеру, говорит больше о «жизни» умирающего, чем о феномене смерти как таковом. Психология имеет дело с онтическими (конкретными, эмпирическими) проявлениями, но не вскрывает онтологическую структуру бытия-к-концу.
3. Теологию, метафизику и спекуляции о «загробной жизни»: Здесь – ключевой момент для читателя. Хайдеггер категорически заявляет, что его анализ «чисто посюсторонний» («rein diesseitig»). Это значит:
o Он не отрицает и не утверждает возможность бессмертия, загробной жизни, реинкарнации или существования Бога.
o Он просто выносит эти вопросы за скобки. Его задача – понять, как феномен смерти уже сейчас, в самой структуре моего бытия, определяет мое существование.
o Вопрос «Что после смерти?» методологически вторичен. Чтобы его вообще осмысленно задать, нужно сначала понять, что такое смерть для меня как для Dasein'а.
4. Этику или «наставление» о том, как правильно умирать: Анализ не говорит, должен ли я встречать смерть мужественно, смиренно или как-то иначе. Он описывает структуру, а не предписывает поведение.
Шаг 2: Иерархия подходов: почему экзистенциальный анализ – фундамент
Хайдеггер выстраивает четкую иерархию:
1. Экзистенциальная аналитика (онтология Dasein'а) -> Фундамент для ->
2. Онтология жизни (которая понимается лишь в «привативном» порядке, т.е. как ущербный, лишенный модус бытия Dasein'а) -> Фундамент для ->
3. Онтические науки: биология, медицина, психология, история, этнология.
Вывод для читателя: Все другие науки уже используют какие-то (часто неявные и непродуманные) понятия о жизни и смерти. Задача Хайдеггера – прояснить самый фундамент, на котором стоят эти науки. Без понимания бытия-к-смерти биолог не может понять, что такое «кончина» (Ableben) человека, а не просто животного, а психолог – что он изучает именно «жизнь» существа, для которого смерть есть определяющая возможность.
Шаг 3: Что же он ДЕЛАЕТ? Фокус на «как»
Экзистенциальный анализ задается единственным вопросом: «Как смерть, как возможность бытия, "входит" в само бытие Dasein'а?».
Он описывает смерть не как событие, а как способ бытия. Я есмь свое бытие-к-смерти. Это нечто, что конституирует мою временность здесь и сейчас, а не ждет меня в будущем. Это возможность, которая раскрывает мне мою собственную ** конечность** и, следовательно, мою индивидуальность (никто не может умереть за меня).











