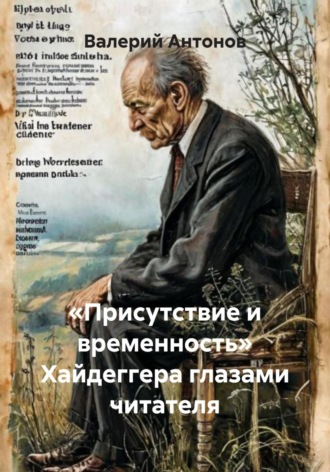
Полная версия
«Присутствие и временность» Хайдеггера глазами читателя

Валерий Антонов
«Присутствие и временность» Хайдеггера глазами читателя
Аннотация
Аннотация к циклу изложений: «Присутствие и временность» Хайдеггера глазами читателя.
Название: Онтологический прорыв: как «Бытие и время» Хайдеггера раскрывает временную природу человеческого существования. Изложение ключевых параграфов второго раздела с точки зрения читателя.
Данный цикл текстов представляет собой подробное, поэтапное изложение и анализ центральных параграфов (§56-…) второго раздела фундаментального труда Мартина Хайдеггера «Бытие и время». Уникальность подхода заключается в том, что сложнейшая философская концепция раскрывается не с позиции автора или беспристрастного комментатора, а с точки зрения вовлеченного читателя, который ставит перед собой конкретную цель: понять текст через призму основного тезиса всего раздела – вся экзистенциальная структура Присутствия (Dasein) есть модус временности.Ключевые тезисы и содержание: В фокусе анализа находятся три ключевых феномена:
1. Совесть как безмолвный зов, обходящий публичное «Man» и призывающий Dasein к его собственной возможности быть.
2. Исток зова – не внешняя сила, а само Dasein в его радикальной «не-уютности» (Unheimlichkeit) и заброшенности.
3. Экзистенциальная «вина» (Schuld) не как моральная категория, а как онтологическая структура «бытия-основанием ничтожности», коренящаяся в самой временной природе человека.
Важность и полезность:· Преодоление барьера сложности: Тексты служат надежным проводником в одну из самых трудных для понимания глав мировой философии XX века. Они переводят абстрактный язык Хайдеггера на язык рефлексии и личного поиска смысла, делая его идеи доступными для вдумчивого, но не обязательно профессионально подготовленного читателя.
· Систематизация и контекстуализация: Изложение не просто пересказывает текст, а выстраивает строгую логическую цепочку, показывая, как понятия заботы, совести, вины и решимости вытекают друг из друга и сводятся к единому основанию – темпоральности.
· Практическая релевантность: Несмотря на онтологическую глубину, разбор имеет прямое отношение к экзистенциальным вопросам современного человека: что значит быть подлинным? Как отличить голос совести от голоса общественного мнения? В чем заключается моя ответственность, если я не являюсь полным хозяином своих обстоятельств? Анализ предлагает мощный инструмент для саморефлексии и осмысления собственного бытия-в-мире.
· Академическая ценность: Цикл снабжен обширными отсылками к трактовкам ведущих зарубежных и отечественных исследователей Хайдеггера (В. Бибихин, М. Маяцкий, Т. Щитцова, У. Ричардсон, Х. Дрейфус и др.), что позволяет читателю увидеть место хайдеггеровских идей в broader философском контексте и сравнить различные интерпретации.
Уникальность и новизна подхода:Подобные попытки популярного изложения Хайдеггера, безусловно, существуют. Однако данная работа обладает рядом отличительных черт:
1. Фокус на читательском опыте: Это не сухой академический комментарий, а живой процесс понимания, где фиксируются трудности, инсайты и рефлексия, что создает эффект соучастия и делает процесс познания прозрачным.
2. Целостность и глубина: Анализ не ограничивается поверхностным пересказом, а последовательно и глубоко прорабатывает ключевые параграфы, сохраняя системность и не жертвуя философской глубиной ради упрощения.
3. Явный акцент на временности: Большинство популярных изложений фокусируются на понятиях «Заботы» или «Бытия-к-смерти». Данный цикл делает центральной и явной связь всех экзистенциалов с временностью, что является ключом к корректному пониманию всего проекта «Бытия и времени».
Таким образом, данный цикл изложений представляет собой уникальный синтез глубокого философского анализа и доступного, рефлексивного повествования. Он будет чрезвычайно полезен студентам, изучающим философию, исследователям-гуманитариям и всем, кто интересуется экзистенциальной проблематикой и ищет надежный ключ к пониманию наследия Мартина Хайдеггера.
Раздел второй: Присутствие и временность.Введение.В фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера центральное место занимает понятие Dasein, которое в русскоязычной философской традиции, благодаря переводу Василия Бибихина, прочно укоренилось как «Присутствие». Этот термин обозначает не просто человека как биологический вид или объект среди объектов, но специфический способ бытия, присущий человеку. Уникальность Dasein заключается в том, что его бытие (экзистенция) всегда является для него вопросом и делом заботы. Оно всегда расположено «здесь» и «вот», вовлечено в мир и озабочено своим собственным бытием, что и позволяет ему ставить вопрос о смысле бытия как такового.
Структура этого бытия раскрыта Хайдеггером в «Бытии и времени» как «Бытие-в-мире» – неразрывное и первичное единство человека и мира, где мир предстает не как совокупность нейтральных объектов, а как поле значений, забот и проектов. Целостность Dasein выражается в феномене Заботы (Sorge), которая представляет собой единство трех моментов:
1. «Впереди-себя» (экзистенциальность, проектирование собственных возможностей);
2. «Уже-в-мире» (фактичность, «заброшенность» в определенную реальность);
3. «При-внутримировом-сущем» (поглощенность повседневными делами).
Сущностью Dasein является экзистенция – понимающее бытие-возможность. Это означает, что человек не обладает заранее заданной сущностью, как вещь, а постоянно ее созидает, делая экзистенциальный выбор и неся за него ответственность. Однако в повседневности Dasein, как правило, пребывает в неподлинном модусе, теряя свою индивидуальность в безличном «Man» («Люди»), где решения и мнения навязаны обществом.
Для достижения подлинности (аутентичности) Dasein должен осмыслить себя как целое. Эта целостность обретается через осознание своей конечности. Подлинное Бытие-к-смерти – это не панический страх, а принятие смерти как собственной, самой главной возможности, которая придает жизни конечность, целостность и остроту. Призывом к подлинности выступает «зов совести», который вырывает Dasein из анонимности «Man» и пробуждает в нем решимость – готовность осознанно принять свою свободу, конечность и ответственность.
Объединяющим смыслом и основой бытия Заботы является временность (Zeitlichkeit). Это не физическое, линейное время («время мира»), а изначальная экзистенциальная структура самого Dasein. В Zeitlichkeit приоритет принадлежит будущему (проекту себя), которое определяет настоящее и прошлое. Из этой первичной временности, основанной на конечности, проистекает историчность человека и, как ее производная, рождается обыденное понятие линейного времени («внутривременность»).
Итоговая цель хайдеггеровского анализа – показать, что понимание бытия вообще конституируется для Dasein в горизонте времени. Таким образом, время становится трансценден-тальным горизонтом для вопроса о смысле бытия. Dasein – это не человек, а бытие человека, поскольку оно, будучи временным и конечным, активно и ответственно вопрошает о бытии.
Аргументы и интерпретации зарубежных и отечественных исследователей.
Зарубежные исследователи:
1. Ханна Арендт, ученица Хайдеггера, развивала идею Dasein как «бытия-в-мире» в политическом ключе. Она подчеркивала, что человеческая жизнь обретает смысл не в изоляции, а в «публичной сфере», через действие и речь среди других, что перекликается с хайдеггеровской «вовлеченностью», но придает ей коллективное измерение.
2. Жан-Поль Сартр, экзистенциалист, взял за основу тезис Хайдеггера о том, что «существование предшествует сущности». Он сделал еще больший акцент на радикальной свободе и выборе Dasein, утверждая, что человек «осужден быть свободным» и полностью ответственен за то, кем он становится.
3. Юбер Дрейфус, американский философ, в своей работе «Бытие-в-мире» дал глубокий аналитический комментарий к Хайдеггеру. Он аргументирует, что хайдеггеровский анализ Dasein предвосхитил идеи в философии сознания и искусственном интеллекте, показав, что человеческое понимание основано не на ментальных репрезентациях, а на непосредственном, практическом навыке («know-how») и вовлеченности в мир.
4. Критики (например, Теодор Адорно) видят в концепции Dasein опасный иррационализм. В работе «Жаргон подлинности» Адорно критикует хайдеггеровские понятия «зов совести», «заброшенность» и «подлинность» как мистифицирующие социальные проблемы, переводя их в абстрактно-онтологический план и уводя от конкретной социальной критики.
Отечественные комментаторы:
1. Василий Бибихин, чей перевод Dasein как «Присутствие» стал классическим, аргументировал свой выбор тем, что этот термин лучше передает онтологический статус человека как «места» («вот»), в котором раскрывается бытие, происходит «событие» понимания бытия. Он подчеркивал, что «Присутствие» – это не субъект, а открытость, просвет, в котором являются вещи.
2. Владимир Бибихин в своих лекциях акцентировал, что временность (Zeitlichkeit) у Хайдеггера – это не поток переживаний субъекта, а само устройство экзистенции, где будущее (проект) имеет примат, потому что Dasein по своей сути есть бытие-к-возможности, а значит, и бытие-к-концу.
3. Михаил Маяцкий в своих работах указывает на сложность перевода и понимания Dasein. Он отмечает, что термин «Присутствие» хотя и устоялся, но может вести к овеществлению, в то время как немецкое Dasein указывает на динамический процесс «бытия-здесь». Эта дискуссия подчеркивает, что само понятие сопротивляется окончательной объективации, оставаясь «в движении».
4. Сергей Хоружий проводил параллели между хайдеггеровским анализом заботы, решимости и бытия-к-смерти и практиками «умного делания» в исихастской традиции православной аскезы. Он видел в обоих случаях радикальный поворот к собственному бытию, хотя и с разными конечными целями: у Хайдеггера – к подлинной конечности, в исихазме – к обожению и преодолению тленности.
СимпозиумДавайте создадим этот симпозиум, собрав всех указанных вами мыслителей вокруг стола, чтобы обсудить сердцевину хайдеггеровского проекта – Dasein как временной феномен, сфокусировавшись на §59-60 о совести и §65 о временности.
Тема: Dasein как временность: онтологический сдвиг или метафизический тупик?Место действия: Условное пространство мысли, где время является не формой, а самим содержанием диалога. Участники: Мартин Хайдеггер, Платон, Аристотель, Рене Декарт, Иммануил Кант, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, а также «читатель» как собирательный образ рефлексирующего сознания. (Диалог открывается. Фигуры emerge из тумана своих текстов.)
Читатель: (Обращаясь ко всем) Мы собрались здесь, пройдя через тернистый путь медленного чтения. Центральный пункт нашего спора – утверждение господина Хайдеггера, что сущность человека, Dasein, заключена не в разуме, не в душе, а во временности. Что даже совесть – это не моральный судия, а «зов заботы», голос нашей собственной конечности, зовущий из будущего. Это кажется мне одновременно освобождающим и ужасающим. Я прошу вас, отцы-основатели нашей традиции, высказать свои возражения.
Аристотель: (Спокойно и методично) Позвольте мне начать. Мой уважаемый коллега строит свою башню на зыбком песке. Он отрицает субстанциальную основу сущего. Для меня сущность (ousia) человека – быть разумным существом, zoon logon echon. Его «временность» – это акциденция, а не субстанция. Его описание «заботы» (Sorge) – это прекрасный анализ душевных движений, но он описан в терминах возможностей и действительности, которые я же и разработал. Зачем изобретать новые онтологические категории, когда можно уточнить старые? Ваша «совесть», молодой человек, – это не «зов бытия», это голос практического разума (phronesis), который судит о поступках в контексте добродетельной жизни.
Хайдеггер: (Сухо, почти резко) Вы подтверждаете мой диагноз, господин Аристотель. Вся западная метафизика, чьим отцом вы и являетесь, понимает бытие как присутствие (Anwesenheit), как постоянное наличие (Vorhandenheit). Вы спрашиваете о что сущего, но забываете спросить о как его бытия. Dasein – это не что иное, как это самое «как». Его бытие – это существование (Existenz), возможность быть, а не реальность присутствия. Ваш «разумный субъект» уже является производным от изначального бытия-в-мире.
Декарт: (Холодно и четко) Это ведет к хаосу. Моё cogito ergo sum – единственная несомненная точка опоры. Вы же растворяете мыслящее «Я» в каком-то потоке «заботы» и «настроения». Ваша «временность» уничтожает субъект как самотождественную субстанцию. Как возможно вообще познание, если нет устойчивого «Я», которое является его основанием? Ваш анализ совести как «молчаливого зова» есть не что иное, как описание смутного, спутанного модуса мышления, который нуждается в прояснении через intellectio.
Хайдеггер: Ваша несомненная точка, господин Декарт, – это вершина забвения бытия. Вы изолировали мыслящее сознание от мира и превратили мир в объект противо-стояния (Gegen-stand). Но Dasein никогда не является «голым субъектом». Оно всегда уже есть бытие-в-мире. Ваша «несомненность» – это онтологическая нищета, забвение изначальной вовлеченности, которая всегда раньше любого противопоставления субъекта и объекта.
Кант: (Строго, поправляя очки) Мне видится здесь фундаментальное недоразумение. Я разграничил сферу явлений, где царствуют априорные формы чувственности – время и пространство, и сферу ноуменов, вещей-в-себе. Время для меня – это форма внутреннего чувства, условие возможности опыта. Вы же, господин Хайдеггер, пытаетесь сделать время онтологической характеристикой самого сущего. Это категориальная ошибка! Ваша «совесть» может быть соотнесена с «категорическим императивом», который есть факт разума, но он принадлежит к ноуменальному миру, а не к временному потоку. Вы пытаетесь онтологизировать трансцендентальное!
Хайдеггер: И вы, господин Кант, остаетесь пленником картезианской традиции. Вы спрашиваете: «Как возможны синтетические суждения a priori?». Я спрашиваю: «Как возможно вообще что-то вроде суждения?». И ответ лежит не в трансцендентальном субъекте, а в конечном, заброшенном бытии-в-мире, чье устройство есть временность. Ваш «трансцендентальный субъект» – это последний потомок субстанциального субъекта, лишенный крови и почвы. Он не есть кто, а есть что.
Гегель: (Величественно, с ироничной улыбкой) Все это весьма трогательно. Прекрасная феноменология отчаяния конечного духа. Но вы, коллега, абсолютизируете момент негативности, момент разорванности. Для меня время – это само понятие, которое есть, форма инобытия духа. Дух «падает во время» на пути к абсолютному знанию, где время будет снято. Ваш «ужас» (Angst), ваша «заброшенность» – необходимые, но преодолеваемые моменты в диалектике самопознания Абсолюта. Вы описали тезис, но не видите синтеза. Вы застряли в негативности.
Хайдеггер: Вы, господин Гегель, – вершина этой метафизики присутствия. Вы довели вульгарное понимание времени как последовательности «теперь-точек» до уровня спекулятивной концепции. Но вы мыслите время из вечности духа. Я же мыслю из временности конечного Dasein. Ваша система тотальна, но она объясняет все, кроме одного: почему вообще есть вопрошание о бытии? Это вопрошание возможно только потому, что бытие вопрошающего есть время.
Платон: (Спокойно, с легкой грустью) Все это разговор о тенях в пещере. Вы спорите о модусах временного, преходящего мира. Но разве цель философии не в том, чтобы обратиться к вечному, неизменному миру Идей? Истина, Благо, Справедливость – вне времени. Ваша «совесть», молодой человек, если она и есть голос подлинный, то лишь постольку, поскольку она напоминает душе о ее истинной родине среди идей. Она – смутная память (анамнесис), а не «зов будущего». Вы свели философию к трепету твари перед лицом ничто, забыв о ее тяге к свету вечного.
Хайдеггер: Ваш мир идей, господин Платон, – это первый и решительный шаг к тому забвению бытия, которое будет определять всю метафизику. Вы поместили подлинное бытие в сверхчувственное и тем самым обесценили мир становления, в котором мы экзистируем. Но бытие – это не высшая сущность. Это событие (Ereignis), раскрытие, которое происходит в просвете, открытом временностью Dasein. Ваш свет ослепляет, а не просвещает, ибо он скрывает сам вопрос о смысле бытия здесь и сейчас.
(Возникает напряженная пауза. Кажется, диалог зашел в тупик.)
Читатель: (Вставая, обращаясь ко всем) Я слышу ваши возражения. Они мощны и системны. Но позвольте мне, как тому, кто проделал работу медленного чтения, выступить в защиту. Господин Хайдеггер не просто предлагает новую теорию. Он предлагает иной способ мышления. Он не отрицает ваши открытия, но показывает их онтологический фундамент.
Вы, Платон, зовете к вечному. Хайдеггер зовет к подлинному принятию временного.Вы, Аристотель, говорите о душе. Но Хайдеггер показывает как эта душа есть – а именно, как забота, уходящая корнями во временность. Вы, Декарт, ищете опору. Хайдеггер показывает, что единственная подлинная опора – это принятие своей бес-основности (Unergründlichkeit), своей заброшенности. Вы, Кант, устанавливаете условия познания. Хайдеггер показывает, что условием возможности познания является конечное бытие, которое уже понимает бытие. Вы, Гегель, описываете великий путь духа. Хайдеггер описывает скромный, но единственно доступный нам горизонт – горизонт нашей собственной смертной временности. Его синтез – это не синтез понятий, а синтез экзистенциалов. Он синтезирует:
· Ваш логос, Аристотель, превращая его в Rede (речь), укорененную в расположенности и понимании.
· Ваше cogito, Декарт, превращая его в Sorge (заботу), которая всегда уже в мире.
· Ваше трансцендентальное единство апперцепции, Кант, превращая его в Zeitlichkeit (временность) как смысл бытия заботы.
· Ваш диалектический процесс, Гегель, показывая его экзистенциальную подоплеку в «пред-бегущей решимости».
· Ваше воспоминание, Платон, превращая его в Wiederholung (повторение) – не память о прошлом, а ответ на возможность бывшего.
Его Dasein – это не новый субъект, а место (Da), просвет, в котором только и может состояться встреча с сущим и с бытием. Это синтез, который не упраздняет различия, а показывает их изначальное единство в структуре бытия-в-мире. Это тревожный, но честный синтез, который возлагает на человека небывалую ответственность: не следовать вечным идеям или моральным законам, а быть своим бытием, то есть времянить подлинно.
(Все молчат. Даже Хайдеггер смотрит на читателя с безмолвным, почти уважительным удивлением.)
Хайдеггер: (Наконец, тихо) Вы поняли. Дело не в том, чтобы быть правым против традиции. Дело в том, чтобы совершить шаг назад (Schritt zurück) к ее основанию, которое она сама забыла. Время – не объект и не форма. Оно – горизонт, позволяющий нам вообще что-либо понимать о бытии. Dasein – это тот, кто стоит в этом просвете и хранит его. Это скромная, но единственная задача мысли.
Диалог не заканчивается. Фигуры медленно растворяются, оставляя читателя наедине с текстом «Бытия и времени» и с бездонной глубиной вопроса, который теперь звучит в нем с новой силой: Что значит – быть?
Реконструкция Dasein как Единого Феномена.Продолжим диалог, подключив указанных интерпретаторов к прямому обсуждению. Финал диалога – попытка синтеза, реконструкции Единого Феномена.
Диалог: Реконструкция Dasein как Единого ФеноменаУчастники: В. Бибихин, М. Маяцкий, Ю. Дрейфус, Х. Арендт, Ж.-П. Сартр, С. Хоружий, Т. Адорно.
Место: Условное пространство мысли, «просвет» (Lichtung), где бытие приходит к слову.
(Диалог начинается)
Бибихин: Мы собрались здесь, в этом «Вот», чтобы помыслить само это «Вот». Dasein – это не человек, а событие присутствия, благодаря которому нечто вроде «человека» и «мира» становится возможным. Это просвет, Clearing, где сущее является как сущее. Всё иное – производно от этого фундаментального обстоятельства.
Маяцкий: Согласен, но важно подчеркнуть: это «Вот» – не точка на карте и не статичное состояние. Немецкая приставка «Da-» – это указание на процесс, на непрестанное полагание-себя-в-открытость. «Бытие-здесь» – это глагол, а не существительное. Оно есть постоянное осуществление, и любая попытка схватить его в статичную категорию убивает его, подменяет сущим.
Дрейфус: Именно так! И это осуществление происходит не в головах, а в мире. Ваше «Вот-Бытие», Владимир Вениаминович, – это не созерцательный разум, а мой «know-how». Первично – это вовлеченность в мир, умение обращаться с вещами, которые являются нам не как объекты для изучения, а как подручное, как молоток, который «указывает» на гвоздь, а гвоздь – на полку, полка – на уют дома… Это и есть сеть значимостей, тот самый мир, в котором только и может присутствовать Dasein.
Арендт: И этот мир, Мартин [Хайдеггер], к сожалению, часто забывал, – это прежде всего мир между людьми. Ваше «Со-бытие» (Mitsein) – это не дополнение, а конститутивная черта Присутствия. Dasein изначально публично. Его подлинность раскрывается не в уединённой тревоге перед смертью, а в совместном действии и слове, в публичной сфере, где мы являемся друг другу в своей уникальности. Без этого «между» нет ни истории, ни политики, ни, в конечном счёте, полностью раскрытого человеческого бытия.
Сартр: Совместность – да, Ханна, но не оправдание! Другой – это всегда взгляд, который объективирует меня, крадёт мою свободу. Да, я заброшен в мир с другими, но это лишь усиливает моё одиночество в свободе. Dasein – это прежде всего проект, постоянный выбор себя. «Существование предшествует сущности» – это и есть его кредо. Оно не имеет алиби. Ни Бог, ни природа, ни «Они» не могут снять с него бремя абсолютной ответственности за тот проект, которым оно является. Его подлинность – в признании этого ужаса и этой славы свободы.
Хоружий: Вы оба правы, и это напряжение между публичным и индивидуальным снимается – но не теоретически, а практически – в работе над собой. Структура Заботы (Sorge) требует «решимости» (Entschlossenheit). Это не просто выбор, это экзистенциальный поворот, аскеза. Здесь я вижу глубокое сходство с исихастскими практиками: и там, и здесь требуется радикальное усилие, «умное делание», чтобы прорваться через слои неподлинного, привычного бытия – к своему собственному, подлинному устроению. Для Хайдеггера – к бытию-к-смерти, для святых отцов – к обожению. Но антропологическая механика сходна: это практика самопреобразования.
Адорно: (Скептически) И вот мы дошли до самого опасного места! Этот возвышенный язык «подлинности», «решимости», «бытия-к-смерти» – это всего лишь жаргон, господа! Он мистифицирует реальность. Пока вы говорите о тревоге и заброшенности как об онтологических категориях, вы молчите о конкретной заброшенности рабочего у станка, о тревоге безработного, об отчуждении в обществе товарного фетишизма. Ваша «аскеза» и «решимость» предлагают индивидуальное решение социально-исторических проблем! Это тонкая форма примирения с ужасом status quo: не меняйте мир, меняйте свое отношение к нему. Подумайте о смерти – и вам станет легче в вашем рабстве. Это философия капитуляции.
Бибихин: Теодор, ваш упрёк серьёзен. Но он возможен лишь потому, что уже есть это «Вот», это пространство смысла, где ужас и несправедливость могут явиться как ужас и несправедливость. Онтология не отменяет социологию, но делает её возможной. Да, можно использовать мысль о бытии для оправдания сущего, но в этом вина не бытия, а того, кто так его употребляет.
Маяцкий: И кроме того, сам ваш критический пафос, Адорно, – разве он не коренится в том самом измерении возможности, которое открывает Dasein? Ваше «недолжное» состояние общества предполагает возможность «должного». Эта возможность – тоже часть онтологического устройства Присутствия.
Арендт: Значит, задача не в том, чтобы отвергнуть онтологию, а в том, чтобы не дать ей уйти в дурную бесконечность индивидуального спасения. Политическое действие – это тоже способ быть подлинным, более того, это тот способ, при котором наша конечность преодолевается через начало нового, через нарратив, который складывается между людьми в истории.
Сартр: И каждый акт такого действия – это акт моей свободы и моей ответственности. Даже бунт.
Хоружий: Который требует аскезы и мужества.
Финал диалога: Синтез – Реконструкция Единого ФеноменаЕдиный Феномен Dasein предстаёт не как неразрешимое противоречие, а как многоуровневое напряжённое единство, живая структура, чьи измерения взаимообусловлены.
1. Онтологический уровень (Бибихин/Маяцкий) является фундаментальным. Dasein – это событие раскрытия бытия, динамический просвет. Без этого измерения всё остальное теряет свой фундамент и превращается в разговор о свойствах некоего готового существа – человека.
2. Экзистенциально-феноменологический уровень (Дрейфус) – это способ осуществления этого просвета. Он раскрывается не в мышлении, а в практической, заботливой вовлечённости в мир значимостей.











