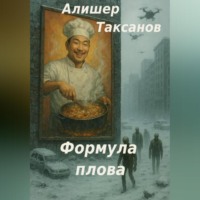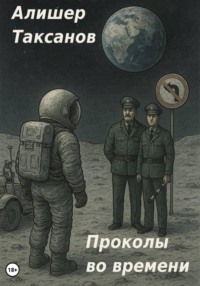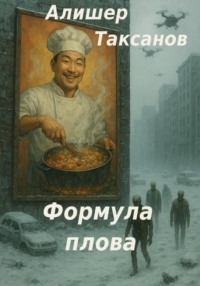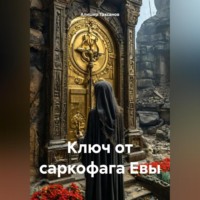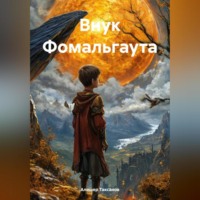Полная версия
На глубине

Алишер Таксанов
На глубине
1.
Лава быстро катилась вниз, как расплавленное железо, и с каждым мгновением ширилась ее красная, сочащаяся в темноту пасть. Казалось, гора изливает огненную кровь из своих глубин, и эта кровь не знала пощады. Воздух дрожал от жара, и любой, кто осмелился бы подойти слишком близко, обрекал себя на смерть за считанные минуты: кожа лопнула бы пузырями, легкие наполнились бы горящим пеплом, и человек исчез бы в огненном дыхании вулкана. Все, что попадалось на пути лавы, уходило в небытие – тропические деревья, высокие папоротники, кустарники и даже быстрые звери, пытавшиеся спастись. Они не успевали, и их последние движения оказывались в плену огненной реки. Даже ручьи и речушки, еще недавно весело журчавшие по склону, иссыхали мгновенно, окутывая окрестности облаками пара, и от этого мир вокруг казался призраком, зыбким и неосязаемым. Некогда густые джунгли национального заповедника Гунунг-Халимун-Салак превращались в иссеченные черные поляны, словно покрытые углем, где из земли торчали обугленные скелеты деревьев, кривые, как руки утопленников, тянущиеся к небу.
Жители западной Явы издавна верили, что гора Салак1 – не просто каменная громада, а древнее и свирепое божество, требующее почестей. Они приносили ему дары, пели ритуальные песни, но на этот раз, казалось, божество не удовлетворилось. Может, дары показались ему дешевыми, слова – пустыми, а сердца людей – недостаточно раболепными. И потому Салак проснулся в гневе, как столетие назад, когда уже уничтожал поселения, оставляя за собой лишь трупы и пепелища. Теперь же он снова выстреливал в небо раскаленные камни и языки пламени, вниз с грохотом осыпались клубы серого дыма. Вулкан становился живым существом, похожим на разбушевавшегося демона, чье дыхание было невыносимо горячим, а рев – заглушал все вокруг. Этот ужас все же был переплетен с величием: нельзя было не почувствовать, что сама Земля дышит и напоминает о своей первозданной, неукротимой силе.
В двенадцати километрах от кратера стоял большой город Богор. Его успели эвакуировать, но десятки мелких деревень оказались в западне. Там люди могли надеяться лишь на чудо или на тех, кто бросился в огненный ад на помощь. Но и спасателям приходилось тяжело: густой туман, высокая влажность и страшная турбулентность делали эту зону коварной. Здесь уже случалось немало авиакатастроф, и потому Салак называли кладбищем самолетов2. Местные говорили, что это само божество карает тех, кто нарушает его покой ревом моторов и беспардонными полетами. Индонезийцы не проклинали гору – они смиренно просили прощения и милости. Но гора никого не прощала, и особенно суровой казалась к чужакам, которыми были и мы – российские спасатели, рискнувшие войти в ее владения.
Наш Ми-26Т российского МЧС3 завис над небольшой возвышенностью, едва заметной среди моря лавы. Красно-черная масса обтекала холм, как вода омывает камень, но мы понимали – это временный островок, и долго задерживаться здесь было нельзя. Отравляющий воздух, глухие удары из кратера, жгучий пепел, падающий сверху, – все это готово было превратить нас в новые жертвы стихии. Один поселок уже был уничтожен дотла, и только горстке жителей удалось вырваться. Те, кто не успел, сидели в полуразрушенных домах, и мы должны были их достать. Но даже индонезийские военные отказались лететь сюда: слишком мало шансов вернуться живыми. Видимость была почти нулевой, и каждый новый рывок вертолета рисковал стать последним.
Но мы были сделаны из другого металла. И хотя в наших словах не было показной бравады, мы понимали – если не мы, то никто. Ми-26Т, эта громадина, способная поднять в воздух 28 тонн груза или целую роту людей, работал на пределе. Его двигатели мощностью в одиннадцать тысяч лошадиных сил ревели, как зверь, удерживая нас над хаосом, а «Веер» – навигационная система – отслеживала каждую турбулентность. Машина выписывала в воздухе такие маневры, что казалось, она танцует акробатический танец с самой смертью.
В тот момент, когда мне удалось вытащить из-под завалов женщину с двумя детьми и привести их на крошечный клочок земли, я впервые почувствовал настоящий страх. Не тот, что парализует, а ледяной, холодный, что пронзает жилы, вливает в кровь адреналин и делает зрение и слух невероятно острыми. Я видел каждую искру, слышал каждый треск горящих веток, чувствовал вибрацию земли под ногами. Страх давал мне силу – и я тащил их к холму, хотя лавина лавы неслась прямо за нами.
– Виктор! Виктор! – кричали пилоты, маша мне руками из кабины. – Мы заберем вас оттуда!
Я кивнул, показывая на женщину с детьми. Они плакали, но в их слезах уже была не только паника, но и надежда. Вниз ползла металлическая лебедка, мерцая на фоне клубящегося дыма. Когда крюк достиг земли, я подхватил девочку лет семи-восьми, нацепил на нее страховочный жилет, подтянул к себе и махнул оператору в кабине: мол, вытягивай осторожно, не дергай! Девочка вцепилась в меня, не понимая, что происходит, но я оторвал ее руки и вложил в холодное железо лебедки. Она взмыла в воздух, кувыркаясь на фоне огненного ада, а я уже хватал за руку ее брата.
Мотор взревел, трос натянулся с металлическим скрипом, и первая жизнь, дрожащее тело девочки, пошла наверх, к спасителям. Ее руки метались в воздухе, словно боялись отпустить невидимую опору, но в кабине Ми-26Т уже тянулись руки в перчатках, обнимали, подтягивали, освобождали от жилета и снова запускали стальной канат вниз, туда, где пепел, пыль и жара превращали нас в силуэты на фоне расплавленной пасти вулкана. Спустя всего две минуты десятилетний мальчишка оказался в безопасности, и это казалось победой – маленькой, но выстраданной.
Вертолет качало, его громадное тело дрожало, как натянутый барабан, и каждый порыв ветра сыпал в воздух новые горсти пепла и камней. Был риск, что раскаленные частицы засосет в турбину, и тогда чудовище из металла и лопастей превратится в гигантскую горящую стрелу, рухнувшую на наши головы. Пилоты знали это слишком хорошо, поэтому требовали по рации закончить эвакуацию немедленно, их голоса хрипели от напряжения, и в каждой команде слышалось: “живите быстрее, иначе умрете вместе с нами”. Салак злился все сильнее – казалось, что гора излучает нечто большее, чем жар: некая темная аура исходила от нее, давила на грудь, подталкивала к бегству. Мысли путались от влажности, тело будто налилось свинцом: чужой климат убивал силы втрое быстрее, чем дома. И когда вулкан накладывал сверху свою адскую тренировку, то казалось, будто даже космонавты, готовящиеся к полетам, имели более щадящие упражнения, чем мы – на краю раскаленной бездны.
И тут землю затрясло. Холм под ногами заходил ходуном, и мы медленно оседали вниз, словно невидимая рука пыталась столкнуть нас в огненное озеро. Женщина завизжала, бросилась в сторону, я схватил ее за локоть и дернул к себе, удерживая равновесие. Стоило оступиться – и падение вниз означало мгновенную смерть: лава не оставляла даже обугленных костей, она пожирала все.
Мы, спасатели, проходили не только боевую и техническую подготовку, но и бесчисленные тесты, где проверяли границы человеческих возможностей. И все же мы оставались людьми, а не героями комиксов. Страх был в нас всегда, и отрицать это значило бы лгать самому себе. Но вместе со страхом в кровь врывался адреналин, разгоняющий сердце и мысли. Именно он превращал дрожь в руках в силу, именно он помогал подавить желание бросить все и бежать. Я давно понял: выживают не те, кто ничего не боится, а те, кто умеет подчинить страх и заставить его работать на себя. Сейчас я действовал не умом, а инстинктом, полностью растворившись в задаче: довести задание до конца, вытянуть женщину, уйти с проклятого холма.
– Быстрее! – ревели мне в наушниках пилоты, их голоса дрожали от натуги. – Майор, быстрее, или ты труп! – они волновались не за себя, а за нас, висящих на волоске между небом и лавой.
Куда уж быстрее, черт побери! Я закрепил на женщине лямки жилета, и в ту же секунду земля окончательно осела, будто прорвалась внутренняя плотина. Если бы я не успел ухватиться за трос, мои ноги срезало бы лавой, как нож масло. Даже так я ударился о торчащий камень, и боль вспыхнула, как электрический разряд, так что пальцы едва не разжались. Мы вдвоем закачались на ветру, вися над кипящей бездной. Пилоты поняли все мгновенно и начали вытягивать нас наверх. Но было поздно для полной безопасности: потоки лавы брызнули вверх, и несколько раскаленных капель врезались в мою ногу. От нее пошел едкий дым, словно мясо на сковороде. Запах был мерзкий, прожигающий до мозга костей, и я стиснул зубы, чтобы не заорать.
Ми-26Т ревел, напрягая все мышцы своего стального тела. Лопасти хлестали воздух, поднимая облака пепла, и вместе с машиной мы с женщиной тянулись к небу, к спасению. Лебедка втягивала нас, трос звенел от напряжения, и наконец нас втащили в гулкий брюх кабины. Внутри пахло потом, металлом и керосином – запах жизни, в отличие от запаха смерти, который остался внизу. Командир дал полную тягу, и вертолет, словно гигантский орел, рванулся прочь от вулкана, набирая почти три сотни километров в час. Мы уходили по широкой спирали, уводя от себя чудовище по имени Салак.
Внизу оставались трупы животных и людей, сгоревшие до неузнаваемости, леса, горящие, как факелы, и темные клубы дыма, рождающие новый ад. Но вдруг гора вновь содрогнулась и выстрелила из пасти лавину огня, обрушив на целый район ярость, превращая его в кипящий котел. Я смотрел на это сквозь окно и думал: да, это ад. Но жизнь покажет мне еще места, страшнее, чем гора Салак…
2.
Здание регионального отделения МЧС возвышалось в центре города, не как административный монстр из стекла и бетона, а скорее как крепкая, уверенная в себе крепость, предназначенная не для показухи, а для дела. Серые гранитные плиты фасада придавали ему суровость, углы были прямыми, окна глубокими, широкие входные ступени изношены тысячами подошв сапог и ботинок. Перед дверями развевался государственный флаг, рядом – алое полотнище с гербом МЧС. На входе дежурили двое сотрудников в форме, строгие, но приветливые: в их глазах не было излишней бюрократии, только рабочая сосредоточенность. Внутри пахло свежей краской и металлом, а коридоры напоминали казарму – строгие, чистые, с ровными рядами фотографий на стенах: кадры с пожаров, наводнений, землетрясений, где ребята в оранжевых касках делали невозможное.
Внутри коллеги встретили меня с оживлением – хлопки по плечу, улыбки, подначки. Кто-то пригласил в кафе, кто-то пытался выпытать подробности о вулкане. Пара шутников легонько пнули по ноге, проверяя, не протез ли у меня под штаниной. Их глаза расширялись от удивления: ведь они сами видели обугленные обломки моего ботинка, расплавленные накладки. «Ангел-хранитель», – пробурчал кто-то за моей спиной, и, пожалуй, я согласился бы. Но задерживаться я не стал: коротко отвечал, улыбался и пробирался к лестнице. В итоге удалось улизнуть, хотя пару минут пришлось провести в приемной.
Секретарша встретила меня взглядом из-под тонко подведенных бровей. Молодая женщина, ухоженная, с аккуратным каре, в строгом сером костюме, сидела за массивным столом с компьютером и стопками бумаг. На ней были очки в тонкой оправе, но чувствовалось, что она больше наблюдает за каждым движением посетителей, чем смотрит в монитор. Голос у нее был холодноватый, профессиональный, но без излишней суровости. Она вежливо объяснила, что шеф разговаривает с министром и мне придется подождать.
Я присел на кресло, потянулся к свежему номеру «National Geographic: Russian Edition». Бумага приятно хрустнула. Наугад открыв страницу, я наткнулся на заметку: «Российские, немецкие и французские геохимики обнаружили в коре Земли океан архейского периода…» Цифры и факты щекотали воображение: глубина 410–660 километров, объем в пять раз больше Мирового океана, температура 1530 градусов, вода в кристаллах минералов… Я успел только обдумать, как эта информация укладывается в мою личную картину Земли, как секретарша щелкнула коммутатором и произнесла:
– Можете входить, майор Захаров.
Я отбросил журнал на столик, встал и постучал.
Кабинет полковника Зубкова оказался просторным, но лишенным ненужной роскоши. Темное дерево стола, массивные шкафы с папками и книгами, на стенах – географические карты и фотографии: группы спасателей на пожарищах, вертолеты в горах, ледяные реки. В углу стояла модель Ми-26Т на подставке, под потолком тихо гудел кондиционер. Запах – смесь полированной мебели, бумаги и слабого аромата кофе. На подоконнике – несколько комнатных растений, неожиданно живых в этой строгой атмосфере.
Зубков поднялся из-за стола навстречу. Мужчина средних лет, подтянутый, с чуть проседью на висках и ясными глазами, в которых никогда не угадывалось усталости. Его фигура говорила сама за себя: спортом он занимался не для галочки. Улыбка была широкой, дружеской, и за этой внешней простотой чувствовался опыт человека, который повидал достаточно катастроф, чтобы отличать главное от второстепенного.
– Входи, Захаров, – сказал он и крепко пожал мне руку. Его ладонь была теплая, сильная. – Молодец! Одолели гору Салак!
Я усмехнулся, стараясь уйти от лишнего пафоса:
– Это же наша работа.
Он усадил меня напротив, отодвинув папку, предложил чай. Я отказался: не то место и не то время. Серьезные кабинеты требовали серьезных разговоров. Зубков понял это и кивнул, будто уважая мой настрой.
– Работы у нас хватает… – начал он и загибал пальцы: пожары, землетрясения, цунами, аварии, взрывы, авиакатастрофы. Слова его звучали обыденно, как перечень из учебника. Но интонация подвела: он говорил туманно, будто не про привычное. Я уловил несвойственную ему манеру. Он даже постукивал пальцами по столу – будто отстукивал тревожную мелодию.
Я напрягся.
– Понимаю, вызвали меня для чего-то иного, верно?
Зубков кивнул.
– Верно мыслишь, Захаров. Слышал о межотраслевой кооперации?
Я вздохнул, пожал плечами:
– Вкратце знаю. МЧС помогает Минобороны или милиции, они – нам. В итоге выигрывают все: и люди, и государство, и ведомства. Или я ошибаюсь?
– Прав, прав, – кивнул начальник, перебирая в руках какие-то бумаги. Его лицо стало сосредоточенным, будто он готовился выдать нечто, что перевернет привычное представление о нашей работе. И, честно говоря, последующая его фраза оказалась именно такой:
– На этот раз поступила просьба от Федеральной службы исполнения наказаний, принесла нелегкая их на своих крыльях…
– А у них что, техногенная катастрофа? – удивился я. – Или их закрытые учреждения попали в зону стихий – вулкан, цунами, землетрясение? И нам нужно спасать администрацию и контингент?
Я рассчитывал, что шутка разрядит обстановку, но промахнулся: Зубков даже уголком рта не дернулся. Помолчал секунду, затем, чуть понизив голос, произнес:
– Гм… нет. Дело совсем иное. Оно требует особой тонкости, осторожности. Ты слышал о зоне «Посейдон»?
– «Посейдон»? Нет… А должен? – спросил я, настороженно, готовясь к любому повороту.
– Официальное название – исправительное учреждение №560/21. Но в простонаречии сотрудники ФСИН зовут его «Посейдоном». Знаешь почему? – он выдержал паузу. – Потому что тюрьма находится под водой. На глубине пятисот метров!
Я ошалело посмотрел на начальника. Сердце невольно сжалось: по глазам его было видно, что это не розыгрыш. Наоборот – Зубков выглядел слегка растерянным, словно и сам до конца не верил в то, что говорит. В его взгляде не было привычной уверенности, и от этого становилось тревожно: если даже он сбит с толку, значит, дело действительно из ряда вон.
– Я сам услышал об этом только на встрече с коллегой из ФСИН, – продолжал он, будто оправдываясь. – Десять лет назад Россия закупила у американцев старую баржу или нефтетанкер – махину длиной двести пятьдесят метров, представь себе. Переоборудовали: заделали щели, установили снятый с утилизированной подлодки рекуператор воздуха, вмонтировали электрогенераторы, разбили внутри оранжереи, поставили установки искусственного освещения. Каюты переделали под камеры, оборудовали камбуз, небольшой кинозал, баню, туалеты с герметичными сливами и фильтрами – в общем, полный цикл для автономного выживания. И… затопили.
Я обалдел. Казалось, во мне на секунду отключились все рациональные процессы: мысли скакнули вразнобой, в груди будто хрустнул лед. Под водой? На полукилометровой глубине? В голове не укладывалось.
Зубков говорил ровно, но я видел, как у него дергался нерв под глазом:
– Корпус уложили на дно Охотского моря. Координаты засекречены. Тюрьма заминирована – при попытке вскрыть снаружи произойдет взрыв, и все погибнут. Любая попытка изнутри – тот же итог. Давление, холод… ты понимаешь, какая это могила?
Я осторожно вставил:
– Э-э-э… а это вообще укладывается в гуманитарные конвенции? В международное право? Разве подобное допускается?
Мне самому слышался в голосе протест. Демократические принципы, правовые нормы – все это ведь не пустые слова. Как можно оправдать подводную тюрьму, где люди обречены навеки?
Анатолий Борисович нахмурился:
– На «Посейдоне» сидят пожизненные убийцы, насильники, военные преступники. Те, кому не дали расстрела из-за моратория на смертную казнь. Ни в одном международном списке эта тюрьма не значится. Ни в отчетах для ООН, ни для «Амнести Интернэшнл». Мир о ней не знает. И это правильно: никто из сотрудников ФСИН не хочет годами охранять этот сброд, обеспечивать им комфортные условия.
Он сделал паузу и уже с нажимом добавил:
– Согласно социологическим опросам, девяносто девять процентов граждан считают, что убийцы и насильники заслуживают расстрела, а не пожизненного заключения. Так зачем идти против народа? Каждый такой заключенный обходится бюджету в огромную сумму. Вот и решили – новые методы, новые технологии. «Посейдон» – тюрьма без охраны. Она и не нужна: сбежать невозможно.
Я молчал, ошарашенный, слушая дальше.
– Каждые два месяца к точке приходит корабль МВД. Спускают вниз «колокол» – герметичную капсулу. В ней – усыпленные заключенные, обычно четверо-шестеро. «Колокол» стыкуется со шлюзом, выравнивается давление, люк открывается – и тела падают внутрь на растянутую сетку. Потом люки закрываются, «колокол» вытягивают обратно на корабль. Всё.
Я предположил, почти не веря в собственные слова:
– А может, в это время заключенные способны влезть в этот «колокол»…
Зубков качнул головой, лицо его оставалось каменным:
– Этот вариант побега был предусмотрен, и поэтому при закрытии в «колокол» вкачивается углекислый газ. Если там и будет кто-то, то он просто задохнется, то есть казнит сам себя. Не сбежишь в итоге…
– Гм… – только и выдавил я. Реакция моя была спутанной: в голове крутился целый вихрь противоречивых чувств. Конечно, никакой жалости к убийцам и насильникам я не питал, моя жизнь была посвящена прямо противоположному – спасению чужих жизней, но сама идея «подводной катакомбы», где люди медленно гниют без солнца, свежего ветра и надежды, казалась не просто жестокой – бесчеловечной. Представлял: десятилетия в железной утробе, где каждый скрип и каждый удар о корпус могут быть предвестниками конца. Металл ведь не вечен – вода все проедает, а давление давит беспощадно. Даже легендарный «Титаник» окончательно рассыпался под толщей океана, хотя его корпус считался чудом инженерии. А здесь – тюрьма, держимая на честном слове и молчании глубины. Жить там – значит каждую минуту чувствовать хрупкость человеческого существования, дышать в ожидании, что завтра железо сдастся, и тогда смерть войдет в двери лавиной ледяной воды.
– А как там люди? – спросил я, не скрывая сомнения в голосе. – Ну, как живут заключенные?
Шеф тяжело вздохнул, развел руками:
– Никто этого не знает. Никаких контактов с «Посейдоном» не существует. Это сделано преднамеренно, чтобы у зэков не возникало ложной надежды на милосердие, а международные организации не смогли запеленговать сигналы. Заключенные предоставлены сами себе. Какой там уклад, какие отношения – неизвестно. Учитывая контингент, вряд ли они живут мирно.
Я слушал с изумлением, которое росло, будто внутри раздувалась пружина. Казалось, будто разговор с Зубковым происходил не в его кабинете, а где-то в бредовой реальности, в кошмаре, который вот-вот закончится пробуждением. Но начальник был предельно серьезен.
– Может, там царит сверхнасилие, жестокость, каннибализм, ритуальные убийства, – продолжал он. – А может, наоборот, гармония и благоденствие, очищение от скверны. Никто не знает. Одно ясно: чтобы выжить, им приходится обслуживать саму тюрьму. Корпус нужно проверять, трещины заделывать, механизмы смазывать, агрегаты чинить. Рекуператор воздуха – главный бог их жизни. Если он остановится, все погибнут: хоть пахан, хоть последний опущенный. Еще нужно поддерживать двадцать градусов тепла, иначе под толщей воды все замерзнут.
Я покачал головой. Слушать это было все равно что вглядываться в бездну, где логика и здравый смысл переставали работать. Тюрьма, зарытая на дне океана, вне законов и морали, вне гуманности и международных норм… И все же она существует. Мир всегда умудряется придумать нечто чудовищное, что превосходит любые вымыслы.
– Вы говорили – электрогенераторы? – осторожно уточнил я. – Там есть дизельное топливо?
– Нет, тратить на это дизель никто не собирается. Генераторы работают за счет подводных течений, словно ветряные мельницы, установленные на корпусе. Энергии хватает на жизнь и ремонт. Раз за десять лет ничего не развалилось, значит, зэки сумели самоорганизоваться. Они довольны, и наше правительство довольно, – Зубков впервые позволил себе слабую улыбку. – Иногда им сбрасывают вместе с новыми заключенными кое-какие запчасти: лампы, фильтры, одежду. Правда, бэушную, но и на том спасибо.
Я взглянул в окно: на улице стояла прекрасная осенняя погода. Солнце светило мягко, не обжигая, а лаская землю своим золотым теплом. Ветер, словно балетмейстер, закручивал в плавном хороводе пожелтевшие листья, и они падали на дорожки и тротуары, превращая их в разноцветный ковёр – желтый, багряный, с редкими пятнами еще зеленых островков. В воздухе витал терпкий аромат увядания, запах сырой земли и листвы, который всегда навевал на меня ощущение покоя и хрупкой красоты бытия. Этот мир был прекрасен, гармоничен, наполнен дыханием жизни и надежды.
А что там, на глубине пятисот метров? Там, где нет солнца, нет ветра, нет пения птиц? Где единственный звук – это стук механизмов да скрежет металла, сдерживающего натиск чудовищной стихии? Какие ощущения у людей, заточенных в подводную темницу, где единственное утешение – осознание, что смерть всегда рядом, стоит лишь корпусу дать слабину? Меня аж передёрнуло. Но я всё равно спросил:
– А еда?
– Там оранжереи, выращивают овощи, цитрусовые. Удобряют почву своими фекалиями. Мяса нет, скотину ведь не заведёшь, птицу не разведёшь. Предполагаю, что каннибализм там имеет место. Или убивают кого-то, или жрут уже умерших… всё возможно. Рыбу, медуз или других морских существ они ловить не могут, – Зубков хмыкнул, явно наслаждаясь картиной, что рисовал, – на такой глубине ничего не плавает, а сети или удочки наружу выбросить они не способны, гы-гы-гы…
Я пожал плечами, не разделяя его мрачного веселья.
– Так что работы там много, – закончил он, – и каждый понимает: от качества сделанного зависит его жизнь и безопасность.
Я тяжело вздохнул:
– Хорошо, а я тут при чём?
Начальник состроил кислую мину: уголки губ опустились, глаза прищурились, лицо стало напряжённым, будто он попробовал лимон, и вся осанка говорила о том, что ему не нравится предстоящее объяснение.
– Дело в том, – наконец произнёс он, – что год назад на «Посейдон» отправили Сергея Ивановича Прохоренко. Маньяка-потрошителя. Точнее, по документам он проходил в ФСИН как осуждённый на пожизненное заключение. Его этапировали на «Посейдон» по решению Волгоградского городского суда по уголовным делам. А потом выяснилось, что дело фальсифицировано…
– То есть? Как это возможно? – слова сами сорвались с языка. В голове сразу родилась догадка: человек, должно быть, перешёл дорогу сильным мира сего, и те решили избавиться от него под видом правосудия. В России такое, увы, не редкость – одна команда сверху, и вот ты уже преступник, хоть вчера был уважаемым человеком.
Я невольно перевёл взгляд на портрет главы государства, висевший на стене. Казалось, что и он как-то причастен к этому кошмару. Но тут же поймал себя на мысли: наоборот, нынешний президент прославился борьбой с коррупцией, сумел многое вычистить в органах власти. Странно было даже подумать, что его рукой могло твориться подобное.
Зубков продолжал, будто не замечая моих сомнений:
– Никакого суда не было. И преступлений тоже. Этот Прохоренко при помощи хакера взломал систему Верховного суда, вложил туда сфабрикованный файл о своём осуждении, который автоматически ушёл в ФСИН. Потом при помощи актёров местного театра, которые думали, что просто играют роль, была разыграна сцена ареста. Его доставили в тюрьму, а оттуда этапировали на «Посейдон», полагая, что он реальный преступник.