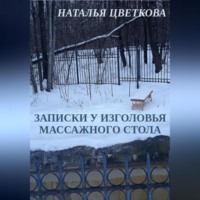Полная версия
Записки у изголовья массажного стола
Когда какое-то движение Х становится невозможно вообще или в какой-то степени, меняются паттерны всех остальных движений, в которых участвуют структуры, каким-то образом задействованные в движении Х. Так как тело человека (и любого живого существа) – биомеханически единая система, задействовано примерно всё примерно во всём. И есть большие паттерны, в которых непосредственно участвуют мышцы всего тела, например, дыхание и походка. А раз участвуют мышцы, значит, для управления мозгом этими движениями важно и состояние связок, надкостницы, оболочек нервов, всего, на что механически влияет сила сокращения соответствующих мышц. Даже когда эти мышцы сокращаются для осуществления совсем другого паттерна. Например, грудобрюшная диафрагма участвует и в паттерне дыхания (это все знают), и в поддержании вертикального положения тела (это уже менее распространённое знание). И, кстати, вращение плеча тоже задействовано в дыхании. Если плечевой кости «запрещено» вращаться вообще или в каком-то положении руки, или в каком-то диапазоне градусов, перестраивается и паттерн дыхания таким образом, чтобы вращения плеча избежать. И становится ограниченным, может возникнуть ощущение «не могу вздохнуть полной грудью». Это уже вызывает дискомфорт. И чтобы человек мог задышать как следует, и как его душа просит, нужно вернуть полную амплитуду вращения в плечевом суставе. И мозг «снимет запрет» на другие движения, которые вроде бы делаются не в плечевом суставе и не руками, но для которых важна свобода вращения плеча. Походка, кстати, тоже. Или не «снимет», если есть ещё суставы, движение в которых ограничено, и нужно «освободить» и их. Ограничено мозгом же, это как самая кафкианская бюрократия, только ещё хуже.
Ещё есть суставы, которыми мы как бы не двигаем осознанно, например, те, что соединяют рёбра и грудину или рёбра и отростки грудных позвонков. Если ограничено движение в этих суставах, тоже не получится полного вдоха, а может быть и больно, это называется «фасеточный синдром». Боли в области позвоночника или при дыхании при небольшом ограничении движения рёбер в фасеточных суставах может не быть, но влияние на дыхание и через него на множество произвольных движений, а также на осанку – есть.
Частично, а иногда и полностью, свободу движения в суставах человек может обеспечить себе сам, систематическими упражнениями. Но не всегда самостоятельно получается всё. Почему и какова роль «ручных» воздействий и упражнений, см. главу «Роль ручной работы и упражнений» части «Что с чем и как можно и нельзя сочетать».
4
Что ограничивает движение?
Понятно, что у каждого движения, которое в принципе может совершить человек, есть разумные пределы, обусловленные биомеханикой суставов и прикреплением мышц. Например, локоть в принципе нельзя согнуть перпендикулярно его обычной траектории сгибания – и локтевой сустав на такое не способен, и мышц для такого движения нет.
Что, кроме биомеханики и тонуса (и реакции на растягивание) мышц может ограничивать движение так, что его амплитуда намного меньше обычной и/или меньше, чем у этого же человека была раньше? На самом деле, ничего другое не может, вопрос только в том, почему снижена способность мышц реагировать на растяжение увеличением своей длины или почему нарушена биомеханика сустава, то есть кости располагаются не так, как надо, всегда или в определенные моменты движений. Сейчас напишу про истории вроде «раньше мог завести руку за спину и потрогать лопатку, а теперь не могу».
Во-первых, что значит «не могу»? Я при таких жалобах спрашиваю, что происходит, когда вы пытаетесь. И показать, как это происходит. Если взять пример с заведением руки за спину, рука может просто «не идти» дальше. Вы пытаетесь, тянете ладонь выше, а она просто остановилась и не идёт. Другой вариант – в какой-то момент движения становится больно, при этом может не быть ощущения, что движению как таковому что-то мешает, если бы не боль, можно было бы продолжить его. Или человек не может сделать какое-то движение активно, но если делать его пассивно, например, тянуть его руку за спину дальше, движение спокойно и безболезненно продолжается.
Почему такое происходит? Более простой теоретически и сложный и трудоёмкий практически вариант – из-за травмы или по другой причине связки стали короче или где-то образовались лишние соединения между ними, или мышцы были повреждены (разрезаны, разорваны) и не восстановились. В таких случаях нужна длительная реабилитация, обязательно включающая в себя двигательную часть, человек должен совершать движения в повреждённом суставе. О роли двигательных практик в такой реабилитации есть прекрасная, по-моему, книга Леонтьева и Запорожец «Восстановление движения» о реабилитации раненых Второй мировой с повреждениями рук. Замечательное открытие, сделанное авторами, состоит в том, что лучше всего движения восстанавливались при работе руками, которую пациенты совершали с энтузиазмом, которая имела для них важный смысл. В книге это было изготовление деревянных оконных рам для восстановления разрушенного Сталинграда. А гимнастика совсем не пошла. Но гимнастика там была из серии «поднимите руки, а теперь махните, а теперь опустите». Я думаю, что практики, в которых движения более осознанные (Фельденкрайз и т.п.) подойдут лучше. Но и практическая деятельность нужна, мозгу нужно заново научиться управлять рукой, которая была повреждена. «Ручной» работой тут можно вернуть в той или иной степени связкам их изначальную длину и форму. И ещё можно помочь мозгу заново научиться управлять движениями, например, руки. Заново учиться нужно потому, что долгое время управление движениями повреждённой части тела идёт под лозунгом «Ничего нельзя!». От всего будет больно, любое движение может повредить ткани ещё хуже. И нужно буквально показать мозгу, что от такого-то движения уже ничего плохого не будет, чтобы оно стало «разрешённым».
Второй вариант – когда сустав или мышцы не повреждены совсем или повреждение совсем небольшое и давно зажило, но всё равно «рука не поднимается» или больно её поднимать. То есть вроде как нет причин для проблемы, а проблема есть. В данном случае «проблема в голове». Не в смысле, что пациент придуривается и делает вид, что чего-то там не может или ему больно, а в смысле, что мозг «запретил» какое-то движение. Почему, не всегда можно понять. Такие «запреты» так же загадочны, как цензура Фейсбука – кого-то банят за фотографию цветущего растения, а кто-то пишет и пишет всякое кровожадное и злобное, и хоть бы что. «Бан» движения мозгом может выглядеть как «досюда поднимаю руку, а дальше не могу, не идёт» или «досюда поднимаю спокойно, а дальше больно», или боль при каком-то одном определённом движении, например, положить ладонь под затылок и лёжа на спине попытаться положить локоть, как он сам ложится под действием силы тяжести. «Забаненными» оказываются движения легко доступные обычному человеку, не типа «сесть в лотос», а типа «поднять руку через сторону вверх».
Разными «ручными» методами можно «разбанить» движение. Работают такие методы быстро, за несколько минут. Если стало можно свободно делать движение, которое было невозможно сделать 10 минут назад, дело в «запрете» мозга, состояние самой мышцы или связки не может измениться так быстро. Так быстро можно и механически изменить положение костей, но параллельно или последовательно нужно будет и «напомнить» мозгу, что такое-то движение теперь возможно. Система управления движениями сложна и многослойна, и завязана на сенсорную «карту» тела, на которой «отмечено» каждое сухожилие, мышца, нерв и т.д. И если каким-то образом показать, что данное движение не повреждает ткани, ничего в нём нет плохого, мозг «снимает бан». Такие штуки делают, например, специалисты PDT-R, но не только. Некоторые, а может, и многие, мануальные методы тоже «снимают бан», хотя не преподносятся как работающие именно с ЦНС.
И самый простой способ «разбанить» движение самостоятельно – медленно и вдумчиво делать его до начала боли. Стало немного, совсем чуть-чуть, крошечку больно – возвращаетесь обратно, и снова пытаетесь сделать движение. В идеале, если вашей чувствительности достаточно, движение нужно доводить до момента, когда оно становится немного другим. Это не боль, но какое-то изменение. Можно и нужно чуть менять траекторию, если чувствуете, что так можно увеличить амплитуду безболезненного движения. Постепенно вы сможете делать движение без боли со всё большей амплитудой. Не всегда этого достаточно, но это всегда полезно. Это применимо только к случаям, когда боль возникает, когда движение доходит до какой-то амплитуды, а в остальное время боль в этом месте отсутствует.
5
Управление движениями
И причины появления боли и ограничения произвольных движений, и как и почему с этим помогают справиться разные «ручные» методы, становятся понятнее, если немного узнать о том, как устроено управление движениями человеческого тела, как и тела любого животного.
Тема огромна и сложна, и, как всегда, многое ещё не изучено. На практике мы пользуемся гипотезами и концепциями, частично основанными на научных данных, а частично созданными на основании клинического опыта, практических наблюдений и общих представлений о функционировании живого организма.
Основные мысли следующие.
1. Нет движений, которые делаются одной мышцей, кроме тиков типа «глаз дёргается», всегда участвует много мышц, которые должны включаться параллельно и последовательно.
2. Управление движениями – это многоуровневая система, задействующая все отделы головного мозга и спинной.
3. Одна «нога», на которой стоит управление движениями – задачи, которые так или иначе решает организм с помощью движений, включая поддержание позы и осанку.
4. Управление движениями осуществляется на основании потока информации от множества механорецепторов, также учитывается зрительная и слуховая информация. Это вторая «нога», на которой стоит управление движениями.
Немного разверну каждый из пунктов.
1. Все движения, которые мы совершаем, и сложные вроде ходьбы, кувырков или письма, и простые, как дыхание или «поднять руку вверх» – это паттерны, результат совместной работы множества мышц. Каждая из мышц-участниц должна работать в нужном режиме в каждый момент двигательного паттерна. Это похоже на игру оркестра или музыкальной группы – чтобы музыка получилась, нужно, чтобы каждый исполнял свою партию чисто.
Если какие-то мышцы не включаются в нужный момент или недостаточно сильно сокращаются, или недостаточно растягиваются, чтобы дать мышцам-антагонистам сократиться как надо и совершить свою работу, или теряется подвижность суставов, или нарушается правильное расположение костей в суставах (не до вывиха, а чуть-чуть) паттерн искажается. Движение начинает совершаться не так, как надо.
Это может создавать избыточную нагрузку на мышцы. Во-первых, потому что из-за изменения расположения костей нарушаются оптимальные рычаги, а во-вторых, если из нескольких мышц-участниц какие-то работают вполсилы, остальным приходится работать «за себя и за того парня». Я очень сильно упрощаю.
Если движение в суставе совершается не так, как «предусмотрено» его конструкцией, это может приводить к избыточной нагрузке на хрящи суставных поверхностей, и получается отёк и механическое повреждение хрящей. Поэтому артроз – это как мозоль. Мозоль – результат длительного натирания участка кожи, а артроз – результат длительной работы сустава с нарушенной биомеханикой. Артроз не возникает сразу, как нарушилась биомеханика сустава, и мозоль не образуется сразу, как вы надели слишком узкие туфли или взяли в руки весло. Мозоль нельзя вылечить, если не устранить натирание, то есть сменить обувь или дождаться, когда ладони адаптируются к трению весла – образуются так называемые сухие мозоли, которые не доставляют дискомфорта, хотя и представляют собой измененённые участки кожи. И артроз нельзя вылечить, не исправив биомеханику сустава.
2. Для сложных паттернов вроде походки есть «базовая схема» и возможности её варьирования. На примере походки это примерно так. Есть базовый паттерн, нейронная сеть для которого расположена в спинном мозге, и работает даже когда человек не может по своему желанию ходить. Такую автоматическую ходьбу, которая запускается движением опоры под ногами, как на беговой дорожке, используют в реабилитации людей, которые потеряли возможность ходить самостоятельно, например, из-за инсульта.
В нормальной жизни мы никогда не ходим автоматически, паттерн походки всегда приноравливается к внешним условиям, меняется в зависимости от настроения, самочувствия и т.д. По гололёду люди ходят не так, как по песку. Хождение по сложной поверхности вроде узкой лесной тропинки, из которой там и тут торчат корни и на которой попадаются камни, шишки и ветки – отдельная история, приспособлением походки к таким сложным условиям занимаются те же нейронные сети, что работают у кошки, которая пробирается по столу, заставленному посудой. По походке мы можем отличить старушку от молодого парня, женщину-танцовщицу от мужчины-штангиста, кокетничающую девушку от спешащей бизнес-вумен, весёлого человека от грустного и т.д. Хотя все эти люди «просто идут».
И если понаблюдать за прохожими, легко заметить, что все ходят по-разному. Кто-то косолапит, кто-то шаркает, кто-то весь как будто подпрыгивает при каждом шаге, кто-то припадает на одну ногу и т.д. Это искажения паттерна походки из-за нарушения порядка и силы включения мышц. Из-за чего мышцы работают именно так – отдельный вопрос. Короткий ответ – так решили какие-то нейронные сети в головном мозге.
3. Почему нейронные сети «так решили»? Потому что есть иерархия задач управления движениями. Только на первый взгляд кажется, что у каждого движения задача одна, и она очевидна. Если я иду, моя задача – дойти из точки А в точку В. Если я тянусь к пирожку на полке, моя задача – взять с полки пирожок. Но на самом деле это лишь одна из трёх целей, которые преследуются при каждом «конструировании» двигательного паттерна на основе базового с последующим модулированием, как описано выше.
Леопольд Бюске в своей книге «Мышечные цепи» пишет о трёх законах, которым подчинается тело: равновесие, экономия (эргономичность движений в том числе) и комфорт (отсутствие боли в том числе). Когда всё хорошо, приоритетным является равновесие, далее следует эргономичность движений, а комфорт есть по умолчанию – ничего не болит. Когда что-то пошло не так, на первое место выходит избегание боли. Процитирую Леопольда Бюске: «Человек готов сделать всё, чтобы не страдать от боли. Он будет пускаться на любые хитрости и уловки, он согнётся, он уменьшит свою подвижность до такой степени, чтобы его защитные адаптации, хотя и менее экономичные, позволили ему вернуть утерянный комфорт». Вот по такому принципу и развиваются компенсации, о которых будет в главе «Почему со мной такое случилось?» (часть «Из-за чего появляется боль и ограничения движений?»).
Тут, конечно, интересно, откуда организм знает, что если вот так сделать – будет больно. И поэтому так делать нельзя, а надо как-то извернуться, чтобы всё-таки реализовать поведение, нужное для достижения какой-то цели на уровне всего организма, например, убежать от врага или поесть.
Возможно, это когда-то было больно, потому что была сломана нога. Но перелом давно зажил, и не больно, но «след» остался. Возможно, никогда не было больно, но было страшно, например, в момент сокращения большой ягодичной мышцы слева почти в лицо внезапно влетел голубь. Так как мозг работает по принципу «совпало – значит, связано», а про логику ничего не знает, большая ягодичная слева может быть «заблокирована», чтобы больше голуби в лицо не влетали. А может и не заблокироваться, и чаще всего ничего не блокируется, иначе мы бы не могли уже буквально шагу ступить нормально.
Ходить можно и не включая большую ягодичную, но будут перегружаться гамстрингеры, мышцы задней поверхности бедра. В норме они только помогают большой ягодичной разгибать бедро, при ходьбе это происходит ближе к отталкиванию «задней» ногой от земли и во время него. А без большой ягодичной гамстрингерам приходится работать и за неё тоже.
4. Но кроме таких «глупых» оснований для искажения биомеханики есть и «умные». То есть организм может искажать паттерны движения, нарушая их эргономичность, чтобы действительно уберечься от риска реального повреждения тканей. Как нейронные сети, управляющие движениями, точнее, те, что модулируют базовые паттерны, узнают о том, есть такие риски или нет? Кроме «старой памяти», есть и поток свежей информации. В мышцах есть рецепторы, реагирующие на растяжение мышцы. Они входят в рефлекторные дуги, которые обеспечивают усиление сокращения мышцы при увеличении нагрузки на неё. Это происходит не просто непроизвольно, но и незаметно для человека. Например, пассажиры в метро стоят и держатся за поручни. Поезд тормозит, руки у всех напрягаются сильнее, но никто не отрывается от телефона, не прерывает разговора и т.д. Люди даже не заметили, какую работу успешно совершили вместе их нервная и опорно-двигательная системы.
Все фасциальные структуры напичканы механорецепторами. Фасциальные структуры – это и сухожилия, и надкостница, и «пленки» на мышцах, и твердая мозговая оболочка, и оболочки нервов, и связки внутренних органов. Такой огромный чувствительный орган, распределённый по всему телу. От этих рецепторов идёт постоянный большой поток информации в мозг о силе натяжения всех фасциальных структур, механическом раздражении их, сдавливании и т.д. И двигательные паттерны, как и описывал Бюске, изменяются при необходимости, например, так, чтобы исключить или минимизировать растяжение какого-то участка оболочки нерва, чтобы он не порвался. Или чтобы не допустить слишком сильного растяжения и так натянутых немного слишком сильно связок, соединяющих верхние шейные позвонки с затылочной костью. И так далее.
Человек не осознаёт, как у него натянуты связки, и не раздражаются ли механически оболочки нервов. Если бы весь этот поток информации хлынул в сознание, мы бы не могли заниматься ничем.
Распускание лишних и неравномерных напряжений фасциальных структур – очень большая часть всей работы, которую делают «ручные» специалисты. Делать это можно очень по-разному и можно иметь любые представления о том, почему твой способ работает. Главное, чтобы состояние фасциальных структур поменялось. И тогда рецепторы принесут другую информацию в мозг, и необходимость оберегать организм от повреждения и боли исчезнет.
А вторая часть «ручной» работы – «демонтаж» уже неактуальных «следов» настоящих или только кажущихся (показавшихся) повреждений. Это тоже достигается разными способами, и это работа напрямую с мозговыми системами управления движениями.
6
Что ещё двигается в теле, кроме костей в суставах?
Короткий ответ: ВСЁ!
Кровь, лимфа, ликвор, первичная и вторичная моча, желчь, слюна, прочие секреты всех желёз внешней секреции – текут. Слизь в дыхательных путях и фаллопиевых трубах тоже течёт, потому что её гонят реснички эпителия. Они как вёсла, только движется вода, а не лодка. Бьётся сердце, у кишечника есть перистальтика, лёгкие расширяются и сжимаются. Правда, лёгкие это делают пассивно, за счёт работы диафрагмы, межрёберных и других дыхательных мышц.
Лёгкие – не единственный орган (пара органов), которые двигаются пассивно в процессе дыхания. Кроме них так же пассивно двигаются и все органы брюшной полости (желудок, печень, кишечник, поджелудочная железа) и почки. Когда диафрагма, образующая «дно» грудной клетки, сокращается, она из выпуклого в сторону головы купола становится более плоской. И воздух «эффектом вантуза» всасывается в лёгкие. Одновременно диафрагма толкает в сторону ног всё содержимое брюшной полости и почки. Почки, например, во время выдоха на несколько см выше, чем во время вдоха. Почки сдвигаются просто «вниз», в сторону таза и ног, а органы брюшной полости двигаются по более сложным траекториям, так как их движение органичено связками сложной формы. В целом можно сказать, что эти органы при вдохе и выдохе как бы разворачиваются то в одну сторону, то в другую. Эти движения называют мобильностью.
Если связки органов, соединяющие их друг с другом, стенкой брюшной полости и диафрагмой, в каких-то местах теряют эластичность, или образуются спайки, органы не могут совершать «предусмотренные проектом» движения под давлением диафрагмы. И это неполезно для их функционирования. Для хорошего кровообращения и лимфооттока внутренним органам нужен такой постоянный «массаж» диафрагмой. И, кстати, снижение способности внутренних органов двигаться внутри брюшной полости мешает наклону туловища вперёд (привет гибкости и растяжке!). После простой работы висцеральными техниками, только со связками органов, брыжейками и другими фасциальными структурами брюшной полости глубина наклона вперёд может сразу увеличиться на несколько см, я видела до 10.
Ещё так же пассивно двигаются, скользят между мышц, костей, связок, сосудов и т.д. нервы. При любом движении с участием скелетных мышц это происходит. А если нерву что-то мешает свободно скользить, появляются боли в разных местах по ходу этого нерва, нарушается работа мышц и бывают разные другие неприятности. Нерв можно освободить, «отлепить» от окружающих тканей, устранить сдавливание нерва из-за отёка или неправильного положения, например, костей, и станет хорошо.
Ещё менее очевидные движения – движения костей черепа и твёрдой мозговой оболочки, окружающей головной и спинной мозг. Между костями черепа есть швы, и кости подвижны относительно друг друга, хоть и с маленькой амплитудой. Их движения не видны глазом, но механическими датчиками их зафиксировали. Кости черепа двигаются, и череп, как цветочек, то как бы немного раскрывается, то закрывается. Чуть-чуть, немножко. Очень небольшие движения, но важные.
Никто не знает, что двигает кости черепа. Есть несколько объяснений, но все они так себе, и ни одно не содержит ответа на вопрос, почему же движется то, что в данной версии двигает кости черепа. Но эмпирическим путём выяснили, что недостаточная амплитуда или неправильная биомеханика движений костей черепа связана с ухудшением самочувствия и настроения. А если помочь костям черепа «научиться» двигаться, как положено, проходят, например, головные боли, улучшается эмоциональная регуляция и т.д. Никто не знает, как и почему, но это работает. И мы этим пользуемся.
Есть ещё разновидности «квазиподвижности» – какие-то феномены, которые «руками» ощущаются как движения, но не связаны с подвижностью каких-либо анатомических структур или тканей тела. «Руками» в кавычках, потому что это интерпретация мозгом каких-то ощущений, которые терапевт получает, положив руки на тело пациента. О таких вещах можно говорить только на цеховом языке, все попытки объяснять их и их эффекты понятийным и теоретическим аппаратом нормальной физиологии выглядят нелепо. Немного о них – в главах «Остеопатия, КСТ, биодинамика и другие странные штуки» и «Что такое краниосакральная терапия (КСТ)?» раздел «Группы методов» части «Как это работает?».
Но главное – всё и должно двигаться. А если вдруг перестаёт, человеку становится нехорошо. «Если разом осушить бутылку с пометкой «яд«, то рано или поздно, почти наверняка, почувствуешь легкое недомогание» (с)
3
Неправильное положение
1
Почему встают криво позвонки?
«Смещение позвонков» или «подвывих позвонков», которые нужно исправить – довольно частый запрос для «ручной» работы. Первое, что тут приходит в голову – взять и поставить позвонки как надо, прямо руками. Так же, как вправляют вывихи суставов. Но позвонки соединены друг с другом не так, как, кости в большинстве суставов, например, кости фаланг пальцев. Кости фаланг имеют суставные поверхности, обращённые друг к другу и покрытые тонким слоем гиалинового хряща. Хрящ этот гладкий, и суставные сумки межфаланговых суставов наполнены жидкостью, поэтому поверхности костей скользят друг по другу, когда мы сгибаем и разгибаем пальцы. В принципе так же, только сложнее устроены коленные, локтевые, тазобедренные и другие суставы.
Позвонки соединены друг с другом по-другому. Каждый позвонок состоит из тела и отростков. Тела позвонков соединены друг с другом межпозвонковыми дисками. Диски эти тоже состоят из хряща, но не гиалинового, а волокнистого, он как бы прилепляет теоа позвонков друг к другу. И тела позвонков не скользят друг по другу, а только немного наклоняются и разворачиваются друг относительно друга. Если купить у мясника шею какого-нибудь животного, например, индейки или барашка, сварить и снять мясо, можно увидеть шейные позвонки, соединённые межпозвонковыми дисками так крепко, что даже в варёной шее позвоночник сохраняет целостность, не разваливается.