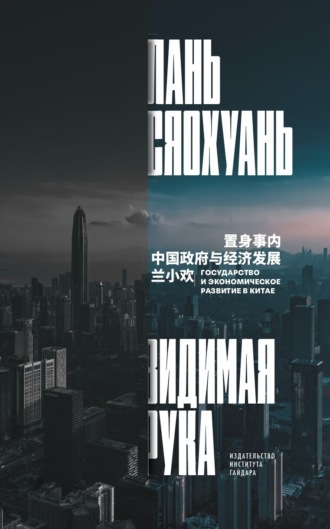
Полная версия
Видимая рука
Следовательно, географический размер административного района должен соответствовать масштабу, на который влияют решения его правительства. Если административная единица настолько мала, что по любым вопросам требуется межрегиональная координация и вмешательство вышестоящего уровня власти, то наличие в нем самостоятельной структуры управления теряет смысл. Есть и обратная закономерность – размер подведомственной территории сам по себе ограничивает масштаб влияния решений региональных властей и объем доступных им ресурсов.
Пространственный охват услугами государстваСогласно классическим представлениям, основная функция государства состоит в предоставлении общественных благ и услуг (公共服务) – будь то оборона страны или устройство городского парка. В теории, чем больше людей пользуется услугой, тем она становится экономически эффективнее, поскольку затраты на создание и обслуживание распределяются между большим количеством пользователей. Это явление называется экономией от масштаба (规模经济). Однако в действительности большинство общественных объектов может обслуживать только ограниченное число людей. Хотя парк и является бесплатным, чрезмерное количество посетителей делает пребывание в нем некомфортным – качество услуги снижается или полностью утрачивается. Кроме того, одного, даже самого большого парка недостаточно для обслуживания всего города: жителям неудобно добираться до него издалека, поэтому парков должно быть несколько. Любой город разделен на районы, причем границы между ними связаны с возможным масштабом предоставляемых их властями общественных благ. С одной стороны, за счет эффекта экономии от масштаба может показаться, что чем крупнее административная единица, тем лучше. С другой стороны, размер администрируемой территории ограничивается затратами, которые люди готовы нести для получения услуг, и не может быть безграничным[12].
Эта логика кажется очевидной, но она действительно помогает понять многие проблемы, с которыми сталкивается правительство, – от небольших, таких как определение границ школьных округов, до вопросов национального масштаба. Еще в древности, если династия стремилась к расширению территории, император должен был учитывать пределы экспансии и задаваться вопросами: действительно ли увеличение территории всегда идет во благо? Не будет ли перенапряжена система управления? Удастся ли управлять отдаленными территориями?
В период правления императора У-ди династии Хань (141–87 гг. до н. э.) Китай находился на пике своего военного могущества и значительно расширил территорию благодаря завоеваниям. Однако эти достижения потребовали огромных ресурсов. Когда его сын, император Чжао-ди, взошел на престол, он организовал знаменитые интеллектуальные дебаты о государственной политике своего отца. Эти дебаты описаны в известном древнекитайском трактате «Спор о соли и железе» (盐铁论). Глава 16 этого произведения посвящена как раз территориальной экспансии. Противники расширения страны утверждали: «Можно сказать, что [государь] Цинь впал в крайность, когда он применял оружие; можно сказать, что Мэн Тянь [продвинулся] далеко, когда он расширял границы. Ныне [государь] шагнул за [Пограничную линию] укреплений Мэн Тяня, учредил округа и уезды в землях грабителей – презренных варваров; чем дальше простираются наши земли, тем больше изнуряется наш народ… Чжан Цянь установил отношения с отдаленными [землями, где] чуждые [нам обычаи], ввел [у нас в употребление] бесполезные [вещи из этих мест], запасы [государственных] сокровищницы и хранилищ потекли в государства периферии…» Другими словами, присоединение отдаленных территорий не оправдывает себя. Там нет пригодных для земледелия земель, а люди непокорны, поэтому управление на таком расстоянии будет сложным и затратным и нет смысла продолжать расширение империи в эти районы. Этот аргумент был настолько убедительным, что сложно было найти серьезные возражения, поэтому оппоненты прибегли к личным нападкам[13].
В рамках нашей теории им не следовало опускаться до оскорблений. Желающие привести доводы в пользу расширения вполне могли начать говорить об экономии от масштаба. К примеру, после завершения Войны за независимость США 13 победивших колоний (штатов) должны были решить, создавать ли им единое федеральное правительство или нет. Понятно, что многие были против: они только что с большими трудностями избавились от британских властей – и что, сразу создавать себе новых? Для того чтобы убедить жителей в пользе федерального правительства, было написано много различных статей, из которых потом составлен сборник «Записки федералиста» – национальная американская классика. Среди них есть эссе 13 за авторством Александра Гамильтона, в котором он доказывает, что федеральное правительство выгоднее, чем 13 маленьких правительств, опираясь именно на аргумент экономии от масштаба[14].
Потенциальный пространственный охват общественными благами и услугами также зависит от имеющейся инфраструктуры и технологий. Например, когда речь идет об организации общенационального новостного телевещания, необходимо учитывать, есть ли у каждой семьи телевизор или доступ в интернет? Все ли слушатели понимают на слух путунхуа (стандартный китайский язык)? Поймут ли содержание люди без образования? Важную роль в этом смысле играют материально-технические и социально-культурные условия. Характерный пример этого можно найти в истории династии Цинь (221–206 гг. до н. э.). После объединения страны император первым делом приступил к стандартизации технических и культурных норм по всему Китаю, включая установление единой ширины колесничной колеи, денежной единицы, системы мер и весов, а также унифицированной письменности. Это позволило населению взаимодействовать более эффективно, а государству – выиграть от экономии от масштаба при предоставлении общественных благ и услуг.
Концепции экономии от масштаба и пространственного охвата помогают понять принципы разделения обязанностей по предоставлению общественных благ между центром и регионами в Китае. Например, расходы на оборону в основном несет центральное правительство, так как вооруженные силы защищают все население и все административные единицы. Начальное и среднее образование, напротив, зависит от учителей и объектов инфраструктуры, которые могут обслуживать только окрестное население. Экономия от масштаба здесь ограничена, поэтому расходы на зарплаты учителей и обслуживание школьных зданий естественным образом ложатся на плечи регионов.
Но вот содержание учебников – это другое дело. Оно не зависит от расстояний и имеет значительные внешние эффекты. Когда все жители страны могут цитировать или хотя бы знакомы с произведениями знаменитых поэтов Ду Фу и Ли Бо, историка Сыма Цяня и других великих деятелей прошлого, это не просто вопрос высокого уровня образования. Это еще и помогает гражданам более успешно коммуницировать друг с другом и создает базу для формирования единого мировоззрения, что повышает взаимное доверие и способствует нахождению компромиссов. Поэтому текущие расходы на школьное образование находятся в компетенции местных властей, а вот содержание учебников – дело центрального правительства, и китайское министерство образования направляет на это много ресурсов. К примеру, в конце 2019 года как раз было принято постановление, нацеленное на усиление единообразия преподавания в младшей и средней школе таких важнейших предметов, как политическое мышление (мораль и право), родная история и китайский язык.
Тогда может возникнуть закономерный вопрос: раз содержание и объем общественных благ и услуг, предоставляемых региональными правительствами по всей стране, одинаковы да и уровень инфраструктуры существенно не отличается, означает ли это, что все административные единицы должны быть примерно одного размера? Разумеется, нет.
Плотность населения, география и культурные различияПервый важный фактор – это плотность населения. Обширная территория Китая заселена крайне неравномерно. Если соединить воображаемой прямой линией Хэйхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и Тэнчун в юго-западной провинции Юньнань, то выяснится, что к востоку будет расположено 43 % территории Китая и 94 % населения, в то время как к западу – 57 % территории, но лишь 6 % жителей[15]. Плотность населения в западной части Китая существенно ниже, поэтому площадь административных единиц значительно больше. Неслучайно четыре крупнейших по площади китайских региона – Синьцзян, Внутренняя Монголия, Цинхай и Тибет – расположены на западе и занимают около половины всей территории страны. Некоторые расположенные в Синьцзяне административные единицы превосходят по площади целые провинции, хотя их население меньше, чем в некоторых восточных уездах[16].
Метод установления административных границ в зависимости от плотности населения абсолютно естественен. Предоставление общественных благ и услуг – дело затратное, а крупное население обеспечивает как более высокие бюджетные доходы, так и серьезную экономию от масштаба. В густонаселенной местности получить необходимую экономию можно за счет обслуживания территории в относительно небольшом радиусе. В малонаселенных же районах для того же самого эффекта подведомственная территория должна быть значительно больше. Закономерность между оптимальным размером административной единицы и плотностью населения утвердилась в Китае еще в эпоху династий Цинь и Хань (221 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Известна строчка из древнекитайского трактата «Хань шу» («История Хань»): «[Устанавливай] уезды размером в сто ли. Там, где населено густо, – уменьшай, где редко – делай больше» (县大率方百里, 其民稠则减, 稀则旷). Иными словами, при повышении плотности населения размер административных единиц должен уменьшаться, а их количество – увеличиваться.
В древности, когда центр хозяйственной активности и, соответственно, населения Китая переместился с севера на юг, старое представление о густонаселенном севере и малонаселенном юге полностью изменилось. Показательным примером служит провинция Цзянси: если во времена Западной Хань (206 г. до н. э. – 6 г. н. э.) она была разделена лишь на 19 уездов, то в период династии Тан (618–907 гг.) их число возросло до 34, Южной Сун (1127–1279 гг.) – до 68, ведь в те годы Цзянси стала крупным сельскохозяйственным регионом. В период правления последней императорской династии Цин (1636–1912 гг.) количество уездов в Цзянси увеличилось до 81[17].
Второй важный фактор – это географические условия. В древности транспорт был слабо развит, поэтому преграды в виде рек или горных хребтов часто становились естественными границами административных районов. Запись о таком принципе установления административных границ мы находим в древнекитайском трактате «Синь Тан шу» («Новая история Тан»): «В первый год правления второго императора династии Тан начато было объединение провинций, установлено по форме вдоль рек и гор, разделена Поднебесная на десять дао» (太宗元年, 始命 并省, 又因山川形便, 分天下为十道). Границы упомянутых десяти дао по большей части прошли по естественным рубежам: рекам Хуанхэ и Янцзы, а также горному хребту Циньлин. К концу династии Тан это переросло в систему 40 фанчжэней (方镇), также разграниченных природными барьерами. Например, установленная тогда граница между провинциями Цзянси и Хунань по горному хребту Лосяо сохраняется и по сей день. В силу исторических причин многие границы между провинциями до сих пор проходят по природным преградам. Помимо очевидного примера с островной провинцией Хайнань, при взгляде на карту можно заметить, как Хуанхэ разделяет провинции Шаньси и Шэньси, а Янцзы – Сычуань, Юньнань и Тибет; горы Ушань служат границей Чунцина и Хубэя, а Линьнаньский хребет с севера ограничивает пределы Гуандун и Гуанси.
Третий важный фактор – это языковые и культурные различия. Сам китайский язык, помимо своей общеупотребительной стандартной версии (путунхуа), включает в себя множество диалектов, между которыми существуют значительные различия. Языки же многочисленных национальных меньшинств Китая в принципе не имеют ничего общего с китайским. Управление и обслуживание населения на нескольких языках одновременно существенно повышает затраты и уменьшает возможную экономию от масштаба, влияя тем самым на размеры административных единиц. Естественно, языковые различия по своему происхождению тесно связаны с вышеупомянутыми географическими факторами. Само возникновение диалектов в основном обусловлено естественными преградами между народами – реками или горами, которые ограничивали общение в древности. Эта закономерность наблюдается во всем мире: в странах с сильно расчлененным рельефом языковая ситуация почти всегда сложнее, чем в равнинных[18].
Языковые различия влияют на прохождение границ как провинций, так и нижестоящих административных единиц – городских округов и уездов. Так, восточнокитайская провинция Чжэцзян известна своим сложным диалектом у (吴语), который, однако, существенно различается в разных ее частях. Его распространение тесно коррелирует с административным делением: территории городских округов Тайчжоу, Вэньчжоу и Цзиньхуа в целом соответствуют границам распространения тайчжоуской (台州片), оуцзянской (瓯江片) и учжоуской (婺州片) вариаций этого диалекта. Культурно-языковые особенности прослеживаются и в административном делении некоторых городских округов. К примеру, в составе городского округа Ханчжоу имеются два сельских уезда – Чуньань и Цзяньдэ, для жителей которых родным является аньхойский диалект (徽语). При этом для остальных жителей Ханчжоу, включая жителей непосредственно мегаполиса, родным является вышеупомянутый диалект у – а если точнее, его тайхуская вариация (太湖片). Интересующиеся могут сопоставить карты административных границ с «Лингвистическим атласом Китая» и увидеть эти и многие другие замечательные совпадения.
Учет этих трех главных факторов (плотность населения, рельеф и культурно-лингвистическая ситуация) объясняет многие административные решения. Например, концентрация населения вокруг определенных населенных пунктов и сопутствующий рост экономической активности часто требуют межрегиональной координации. Некоторые из таких механизмов в итоге выходят на общегосударственный уровень, как, например, интеграция дельты реки Янцзы (вокруг Шанхая), создание южнокитайского Большого залива (в составе части Гуандуна, Гонконга и Макао) и слияние Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в Столичный макрорегион. Другой пример – создание современной инфраструктуры и повышение транспортной связности территорий позволяет упрощать административное деление, объединяя регионы там, где раньше это было затруднительно. Кроме того, понимание масштаба диалектных и культурных различий в Китае помогает осознать степень важности продвижения на национальном уровне общего для всех языка – путунхуа, а также единого подхода к преподаванию истории и культуры.
Разумеется, три вышеперечисленных фактора представляют собой лишь базу для понимания административного деления и не могут охватить все возможные ситуации. Нужно учитывать влияние других факторов. Во-первых, население может легко перемещаться, и его плотность может быстро поменяться, однако административные границы значительно более консервативны, их изменение требует гораздо большего времени. Под влиянием притока жителей власти могут преобразовать сельские уезды в городские. Однако обратных случаев изменения административных изменений там, откуда люди уезжают, обычно не наблюдается. Миграционно-отрицательные уезды обычно не упраздняют, но могут, например, для сокращения расходов административно объединить некоторые учреждения (например, сельские школы).
Во-вторых, помимо следования вдоль форм рельефа и водотоков, границы могут быть проведены и на других основаниях. В китайском административно-территориальном делении с древности также используется и другой принцип – «сомкнутых зубов» (犬牙交错), согласно которому границы должны делить компактную территорию на несколько частей, чтобы не допустить ее обособления и роста самостоятельных сил. Наиболее показательный, однако не слишком успешный пример этого подхода – династия Юань (1271–1368 гг.), монгольские правители которой разделили свои владения на огромные провинции без всякого учета конфигурации рельефа.
В-третьих, административные границы могут разделять территории с общими диалектами и культурой. Например, обширная территория, жители которой говорят на диалекте хакка (客家话), в настоящее время разделена между провинциями Гуандун, Цзянси и Фуцзянь. Другой яркий пример – провинция Цзянсу. Расположенные в ее южной части наиболее экономически развитые города Сучжоу, Уси и Чанчжоу говорят на том же диалекте у, что и соседняя с ними провинция Чжэцзян. При этом вся северная часть Цзянсу говорит на цзянхуайской вариации путунхуа (江淮官话), которая значительно ближе к стандартному северному произношению.
Экономика административных границДля Китая характерно такое интересное явление: районы, расположенные на стыках административных единиц, как правило, отстают в развитии. Это особенно заметно на стыках границ между провинциями. Так, по статистике, внутри Китая сейчас имеется 66 участков внутренних сухопутных границ между провинциями общей протяженностью 52 тыс. км. Суммарная площадь территорий, попадающих внутрь 30-километровой полосы вдоль них (по 15 км в каждую сторону), составляет 1,6 млн км2 – это одна шестая часть страны. Однако в 2012 году именно в этой полосе располагалась половина из правительственного перечня 592 наиболее бедных уездов Китая. Эти цифры наглядно демонстрируют, что уровень бедности вдоль административных границ провинций значительно выше, чем в расположенных в их внутренних частях[19].
Феномен отставания в развитии и формирования «медвежьих углов» (по-китайски они называются 三不管地带, то есть не интересные ни центральному, ни провинциальному, ни низовому руководству) также может быть объяснен с помощью концепций экономии от масштаба и охвата общественными услугами. Во-первых, политическим и экономическим ядром каждой провинции обычно служит ее административный центр. Именно в нем наблюдается наибольшая плотность населения и максимальная экономия от масштаба. Однако административные центры провинций редко располагаются вблизи их границ (исключения составляют Нанкин в провинции Цзянсу и Синин в провинции Цинхай). Транспортная удаленность приграничных районов от центра провинции, конечно, ограничивает их доступ к общественным благам и услугам.
Во-вторых, как было показано выше, конфигурация границ административных единиц связана с рельефом местности. В результате многие приграничные уезды расположены в горных частях, где средний уклон территории на 35 % выше, чем в неприграничных уездах. Это также препятствует экономическому развитию. Характерными примерами служат горы Тайханшань на границе провинций Шаньси и Хубэй, горы Уишань на границе Цзянси и Фуцзянь и горы Дабешань между провинциями Аньхой, Хубэй и Хунань.
В-третьих, хотя границы провинций в целом и соответствуют культурно-лингвистическим ареалам, это соответствие не является полным. Доминирующая в определенной провинции культура обычно сконцентрирована вокруг административного центра, тогда как в периферийных районах могут быть распространены совсем другие диалекты и языки. Например, родной язык китайцев-хакка, проживающих на стыке провинций Цзянси, Фуцзянь и Гуандун, имеет мало общего с доминирующими в этих провинциях диалектами гань (赣语), минь (闽语) и кантонским (粤语) соответственно. Похожая ситуация сложилась в провинции Аньхой. Жители ее северных районов говорят на среднеравнинном диалекте путунхуа (中原官话) и в этом смысле значительно ближе к населению соседних провинций Хэнань и Шаньдун, чем к носителям доминирующего в провинции цзянхуайского диалекта путунхуа. Когда периферийные территории вдобавок культурно и лингвистически отличаются от остальной части своей провинции, это едва ли хорошо для их экономического развития[20].
Примечательно, что те же самые проблемы существовали и в период Китайской Республики (1912–1949 гг.), благодаря чему подобные «медвежьи углы» стали благоприятной средой для революционной деятельности китайских коммунистов. Не случайно многие из известных каждому китайцу с детства «красных революционных баз» географически расположены на стыках провинций. Наиболее знаменитый укрепрайон Цзинганшань расположен в горах Лосяо на границе провинций Хунань и Цзянси. Другие революционные базы также находились на границах двух или нескольких провинций – наиболее известны из них участки на стыках провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся (陕甘宁), Шаньси, Чахар и Хэбэй (晋察冀), Хубэй, Хэнань и Аньхой (鄂豫皖), а также Хунань, Хубэй и Цзянси (湘鄂赣). Широко известная серия сражений «Четыре перехода через Чишуй» во время Великого похода Красной армии произошла в 1935 году на одноименной реке, протекающей по границам провинций Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань (川黔滇)[21].
С точки зрения концепции охвата общественными услугами главной проблемой территорий вдоль внутренних границ является нехватка инфраструктуры, в частности дорожной сети. Так, еще в 1980-х и 1990-х годах на границах между китайскими провинциями нередко встречались тупиковые дороги «в никуда». В 1992 году я проехал на автомобиле из Внутренней Монголии в Пекин через провинции Шаньси и Хэбэй. Хорошо помню, что трассы внутри провинций были неплохими, но при каждом приближении к границе провинции качество дорожного покрытия ухудшалось вплоть до того, что мне приходилось искать объездные пути. А в темное время суток в таких местах проезжающие могли запросто столкнуться с откровенными поборами со стороны местных рэкетиров.
Интересно, что, по данным исследований, этот «пограничный эффект» в дорожных сетях (меньшая плотность дорог и менее интенсивное движение) статистически наблюдался еще в 2012 году, хотя и не так выраженно, как за 20 лет до этого. Он сохраняется даже при исключении из рассмотрения таких факторов, как экономическое развитие, плотность населения и особенности рельефа – однако только для находящихся на балансе региона скоростных автострад (高速公路) и автодорог провинциального уровня (省道). В сетях же автодорог государственного уровня (国道), как и железнодорожных, относящихся к компетенции центрального правительства, такая закономерность не прослеживается[22]. Это яркое свидетельство того, что провинциальные правительства не стремятся направлять ограниченные ресурсы для развития своих периферийных районов. К счастью, благодаря стремительному экономическому развитию Китая и крупномасштабным инвестициям в инфраструктуру последних десятилетий сегодня этот «пограничный эффект» уже не является серьезной транспортной проблемой.
В районах вдоль внутренних административных границ наблюдаются и негативные экологические тенденции. Особенно актуально это в бассейнах крупных водных объектов, к берегам которых выходят сразу несколько регионов, – например, рек Хуайхэ и Хуанхэ или озера Тайху. Вообще, промышленное загрязнение окружающей среды само по себе представляет собой классический пример межрегиональных экстерналий. Только после того как в 2003 году центральное правительство выдвинуло концепцию научного развития и установило конкретные целевые показатели по снижению загрязнения воды в 10-м и 11-м пятилетних планах, качество воды в Китае начало улучшаться. Однако проблемы на границах провинций все еще полностью не решены. В некоторых провинциях «грязные» предприятия располагаются в ее периферийных частях вблизи крупного водотока таким образом, чтобы сбросы в основном уходили ниже по течению. Экологическая ситуация же в источнике загрязнения может даже демонстрировать улучшение[23].
Решение проблем нескольких регионов, вызванных подобными негативными экстерналиями, эффективнее всего доверить вышестоящему по отношению к ним уровню власти. Именно поэтому китайское правительство использует вертикально-горизонтальную, матричную организационную структуру, о которой мы говорили ранее. Когда возникает межрегиональная проблема, которую затруднительно решить горизонтальным взаимодействием, для нахождения решения необходимо вынести ее на более высокий административный уровень. С другой стороны, полномочия местных властей взялись у них не сами по себе, а были в какой-то момент делегированы им сверху. Однако какие полномочия делегировать, а какие нет, зависит в том числе и от наличия или отсутствия в этой сфере внешних эффектов. Это только в теории вышестоящий уровень власти готов вмешаться в любой вопрос, на практике же вероятность и степень вмешательства зависят в том числе и от наличия внешних эффектов, экономии от масштаба и межрайонной координации.
Из-за сохраняющегося в Китае регионального протекционизма, особенно заметного на рынках земельных и трудовых ресурсов, границы административных районов заметно влияют на экономическое развитие. Региональные квоты на различные типы землепользования (用地指标) и система постоянной регистрации жителей (户籍制度) во многом определяют коммерческий оборот земли и мобильность населения. В долгосрочной перспективе полное устранение этих барьеров возможно, но требует проведения более глубоких рыночных реформ. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе более эффективного распределения ресурсов можно достичь и за счет других мер, включая изменение административно-территориального деления, расширение юрисдикции властей городских округов и создание интегрированных метрополитенских зон. Конфигурации многих нынешних административных единиц унаследованы еще с глубокой древности либо были созданы в период плановой экономики и уже не поспевают за современными темпами индустриализации и развития сферы услуг. Более того, учитывая размеры Китая, полная интеграция внутренних рынков факторов производства в масштабах всей страны неизбежно потребует значительного времени, и логично начать с интеграции на региональном уровне.



