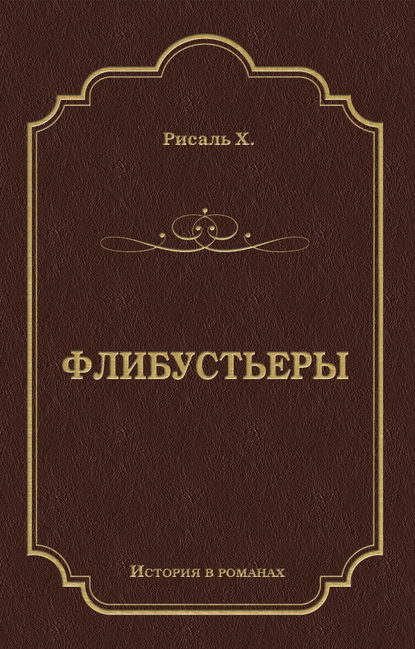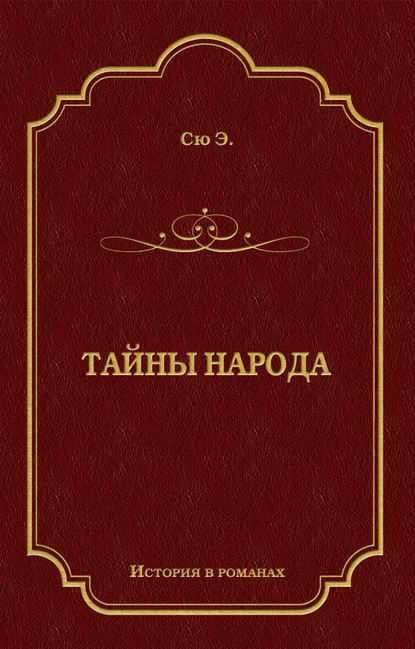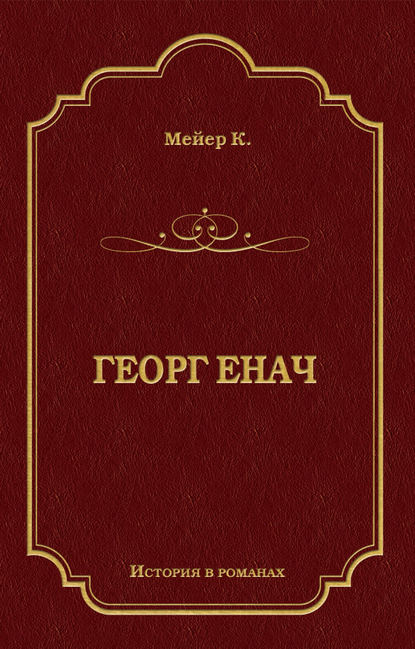Полная версия
Дочери служанки
Дон Херонимо был первым из семьи Вальдесов, разбогатевшим на морских перевозках соли от копей в бухте Кадиса до берегов Галисии. В начале XIX века консервирование сардин требовало немереного количества соли, и дон Херонимо учуял прибыль раньше других. Сеньоры Сардина, каталонцы, жившие на берегах Атлантики, стали его лучшими клиентами. Соль требовалась и в других местах, но надо признать: Видаль Кирога делали свое дело лучше остальных. Они занимались уловом, используя новые технологии, и усовершенствовали процессы соления и обработки рыбы. Это позволяло им консервировать рыбу на более длительные сроки и быстро продавать на всем пространстве от юга Франции до Ближнего Востока и от Барселоны, через Средиземное море, до пределов Италии.
Сеньорам Сардина требовалась половина фанеги соли для засолки тысячи сардин.[2] Доходы дона Херонимо росли и росли, и он все больше и больше вкладывался в судоходство, чтобы обеспечить разнообразные пути доставки. Дошло до того, что он перевозил до тридцати тысяч кубометров соли, а это предполагало около сотни мест доставки в год. В семье тоже все множилось и нарастало. Одежда. Разные прихоти. Книги, приходившие в провинцию. Предметы искусства. Драгоценности для бабушки дона Густаво, доньи Соле Гусман. Светильники, украшавшие их первый дом и продолжавшие светить в гостиных замка. Именно тогда и именно благодаря соли первые Вальдесы купили замок в Пунта до Бико у одного разорившегося идальго, и дон Херонимо не накинул ему ни одного реала, поскольку у того оставалось еще много чего даже после того, как он потерял все.
Замок был всем известен как обитель Святого Духа, поскольку он возвышался на холме, имевшем это название. К нему вела тихая грунтовая дорога, обсаженная каштанами, придававшими ей сияющее величие. Дона Херонимо покорили толстые стены замка из гранита, обработанного в каменоломнях Винсьоса. В тех местах, куда солнце редко попадало, особенно в течение многих зим, стены, не избалованные его теплой лаской, покрывал мох.
Ничто не предвещало беды, а может, просто так казалось, но только ситуация изменилась из-за последующих войн и нападений французских корсаров, из-за которых море превратилось в опасную территорию; дошло до того, что пираты заставили португальский флот покинуть воды и серьезно угрожали испанскому. Дон Херонимо как-то выживал, но тут один из его соседей по провинции, чье имя лучше не называть, чтобы не нарваться на неприятности, вдруг заделался лучшим ночным торговцем солью во всем Испанском королевстве. Он заручился львиной долей контрактов в порту Саламанки, которые перекрывали доступ всем остальным. Так что дон Херонимо заторопился продать свои суда за хорошую цену, но вот незадача: оказалось, сосед спелся в этом вопросе с сеньорами Сардина, и это задело дона Херонимо до глубины души. Не потому, что это ему навредило, он и без того уже был богат, но он понял: Сардина хотели заполучить все – и рыбу, и соль.
Дон Херонимо удалился на террасу Сиес и несколько лет общался только со своими работниками. Одни потеряли работу, другие заключили контракты с новым предприятием, однако жаловались и те и другие. Их жены рассказывали ему анекдоты и разные смешные случаи про сеньору Сардина, но он затыкал уши и смотрел вдаль, на то, как приходили в порт корабли, на которых уже не было его соли. Видел он и кораблекрушения, и жалкие остатки всякого добра, которые после отлива выбрасывало на берег. До тех пор, пока в один прекрасный день ему не надоело хранить молчание. Так он оставил родную Галисию и взял курс на Кубу вместе с женой, доньей Соле Гусман, и двумя уже подросшими сыновьями, Педро и Венансио. Он никому не сказал, куда направляется. Он уладил с крестьянами все вопросы с арендой земли и поклялся, что не поднимет ренту в течение всего времени, что будет отсутствовать. Если соль принесла ему состояние, то сахар сделал его еще богаче.
На рассвете дон Густаво очнулся, стукнувшись головой о спинку кресла. Он так и заснул с сигарой в зубах, которая потухла, успев обжечь ему пальцы.
– Дон Густаво, дон Густаво, – услышал он шепот Исабелы.
От неожиданности он открыл глаза.
– Дон Густаво, принести вам завтрак? Уже скоро восемь.
– А сеньора? – воскликнул он.
– Она еще спит, – ответила служанка.
– А девочка?
– Тоже спит. Девушка покормила ее своим молоком.
– А Хайме?
– Все еще спят, сеньор.
– Мне нужно идти на фабрику. Сегодня понедельник, – сказал он потягиваясь.
Служанка вышла из спальни, и дон Густаво собирался привести себя в порядок, как вдруг увидел Доминго, мужа Ренаты. Тот был похож на бочку. Дон Густаво отошел в глубь террасы, чтобы охранник его не заметил, а сам продолжал следить за ним взглядом. Так и не сумев открыть дверь, мужчина рухнул на землю.
«Будь ты проклята! Мне следовало держаться от них подальше!» – с досадой подумал дон Густаво.
Рената с новорожденной девочкой, привязанной на спину, и с обнаженной грудью вынуждена была наклониться к мужу и бить его по щекам, пока тот не пришел в себя. Будучи свидетелем этой сцены, дон Густаво чуть приоткрыл окно и услышал, как Рената называла мужа проклятым всеми святыми, несчастным пьяницей, и бог знает, кем еще.
– Если тебя увидит сеньор, он выгонит из дома нас обоих! – сказала она, закрывая за собой дверь.
Дон Густаво снова почувствовал холодок внутри. Потом он увидел, как Рената бежит к парадному входу замка. Услышал голоса обеих служанок. Он напряг слух, но слов не разобрал. Доносился только общий шум, иногда слышались отдельные слова, но смысл понять было невозможно: то раздавался высокий голос, то другой, принадлежавший Исабеле, а затем дон Густаво услыхал умоляющий голос Ренаты, которая произнесла: «Только бы сеньор нас не услышал».
И снова со стуком закрылась дверь.
И тишина.
Вскоре шаги Исабелы возвестили приближение завтрака.
– Сеньор, приходила Рената.
– И что сказала?
– Что она родила девочку.
– И больше ничего?
– Больше ничего.
– Пусть отдохнет, сколько нужно, пока не восстановится, – заключил сеньор, избегая смотреть в глаза служанке.
– Она отказалась. Говорит, ей не надо.
Сеньор поставил чашку на маленький столик.
– Пусть больше не входит в этот дом.
– Не понимаю.
– Нечего тут понимать, пусть больше не входит в этот дом, – отрезал он.
Исабелу так перепугали слова дона Густаво, что у нее не хватило духу спросить, должна ли она сказать об этом Ренате или кому-то еще, и когда той не входить – сейчас или вообще – и самое главное – почему. Она спрятала свои сомнения и ушла в кухню, сварить куриный бульон для доньи Инес и подождать, когда проснется малыш Хайме, чтобы заняться им и больше ни о чем не думать.
Исабела не слишком высоко ценила Ренату. Разве что немного ревновала, потому что та была красива и не было мужчины, который не оценил бы, как она сложена. Сеньор держался вежливо и был щедр со всеми слугами, но особенно с этой служанкой, которой он дарил к Рождеству хорошие подарки. А иногда не только к празднику. Порой летним вечером, пока сумерки еще не опустились на Пунта до Бико, она видела, как они оживленно разговаривали, пользуясь моментом, когда сеньора была занята с ребенком или погружена в чтение какой-нибудь книги, выписанной из столицы. Исабела понимала, Доминго ей противен, Рената ненавидит его, хотя на самом деле пьянки были не в новинку и в его оправдание надо сказать, что пил он только в тот день, что совпадал с его именем[3], как бы воздавая честь самому себе с помощью красного вина для бедных.
– Эта женщина несет свой крест.
Сеньор ушел из замка, даже не сообщив, вернется ли он к обеду или к вечернему визиту доктора Кубедо и не хочет ли он, чтобы Исабела сказала дону Кастору, чтобы тот отслужил мессу в часовне за здравие доньи Инес…
У служанки и времени не было спросить его об этом, поскольку хозяин испарился, словно бестелесный дух, в направлении фабрики; как он уже упомянул, наступил очередной понедельник.
Однако что-то все-таки произошло, прежде чем он вышел за скрипучую калитку. Рената ждала его, прислонившись к каменной стене. Она положила ему руку на плечо, подошла к нему вплотную и со слезами на глазах произнесла четыре фразы. Исабела никогда не узнала, что именно та сказала, но на всякий случай несколько раз перекрестилась, чтобы отпугнуть злых духов, поселившихся в этом замке.
Глава 3
Солнце проглядывало на небе, покрытом тучами, застрявшими на Монтеферро – железной горе, которая возвышалась в море прямо напротив Пунта до Бико в бухте Каррейра. Гроза прошла, и малышу Хайме можно было выйти в сад поиграть с собаками, а потом погулять за руку с Исабелой, которая заставляла его повторять имя сестренки, желая убедиться, что он его запомнил.
Рената видела, как Исабела вышла из дома и пошла по дороге к порту, подождала, пока та не скрылась из виду, и вышла из дома с ребенком на руках. Она быстро побежала к замку, заглянула в окно кухни и осторожно постучала по стеклу. Маринья сидела на скамейке, где служанки поверяли друг другу свои горести и мечты, жаловались на боли в пояснице, обморожения и ожоги. Выговориться – лучшее средство.
– Кто здесь? – спросила Маринья.
– Я, Рената.
– Входи, входи, – ответила кормилица.
Рената открыла парадную дверь, стряхнула грязь с башмаков и спросила:
– Можно мне остаться?
Маринья ответила, да, можно, поскольку Исабела ушла с Хайме и вернется не скоро.
– Она оставила тебя одну с ребенком? – уточнила Рената.
– Я получила на то ее благословение. Мы не воюем, – заверила Маринья.
Глядя на кормилицу господского ребенка, приложенного к груди, Рената почувствовала, как будто ее укололи.
– Я не знала, что тебя позвали, – сказала она.
– Донья Инес была совсем плоха. А Кубедо не очень понимает в родах.
– Я видела, как пришел доктор. А тебя не видела, – продолжала Рената.
– В любом случае хорошо, что он пришел, девочка застряла. Вышла с трудом.
– Сеньора в порядке?
– Спит, – ответила Маринья.
– Как назвали ребенка?
Рената наклонилась, чтобы поближе рассмотреть девочку.
– Каталина.
– Красивое имя, – сказала она, глядя на малышку; только она знала, чего ей стоило скрывать свою боль.
Сильную боль.
– А твою как? – спросила Маринья. – Я слышала, ты тоже родила девочку.
– Ее зовут Клара.
– Тоже красивое имя.
Рената села с ней рядом и дала ребенку грудь.
– Трудные были роды?
– Нет. Все произошло быстро.
– У тебя что-нибудь болит?
– Скорее беспокоит.
Маринья посмотрела на девочку сеньоры. Закрыв глаза, та мирно и спокойно сосала грудь. Дочка Ренаты, напротив, смотрела на мать с тревогой, словно ей не хватало еды.
– Думаю, у меня недостаточно молока. И малышка остается голодной, – пожаловалась она. – Ты бы могла…
Рената вдруг умолкла. Она знала, что не может просить об этом кормилицу, но та все поняла без объяснений.
– Не знаю, хватит ли у меня молока на обеих.
Рената наклонилась к дочке, закрыв густыми черными волосами ее лицо, и что-то прошептала, при этом взгляд ее изменился. Вдруг покрывшись испариной, она стала нервно кружиться по кухне. Казалось, в нее вселился дьявол.
– Какое несчастье, Маринья! Горькая моя судьба!
– Рената, говори тише, нас могут услышать…
– Сеньора нет дома. Я видела, как он уходил.
– Да, но он может вернуться в любой момент.
Несколько минут девушки просидели в тишине, которую нарушила Рената.
– Если бы я могла…
– Если бы ты могла что? – спросила кормилица.
– Ничего, ничего, это я так, о своем. Занимайся своим делом…
Рената наблюдала за тем, как ловко Маринья массирует грудь, чтобы молоко, бежавшее по своим лабиринтам, попало в рот девочки. Она отвела взгляд и указала на кастрюлю с куриным бульоном, недавно приготовленным Исабелой.
– Можно я поем бульона?
– Нужно, – ответила кормилица. – Поешь как следует, тогда и молоко будет.
– Твои слова да Богу в уши!
Маринья встала со скамейки и сказала, что ей нужно искупать Каталину, а Рената может остаться, но только чтоб держала ухо востро, а то может прийти сеньор или Исабела, как знать.
– Ты одна справишься с купанием?
– Конечно, ты что? Или ты думаешь, это первый ребенок на моем попечении?
Рената не ответила и, охваченная жалостью к себе, посмотрела на Клару; она проклинала свою горькую судьбу и роковую ошибку: влюбиться в того, кто никогда не сможет ответить на ее любовь.
В те годы красота не гарантировала хорошей жизни. Наоборот, она лишь предвещала опасности, недаром ее мать, покойся она с миром, предупреждала Ренату держаться подальше от сеньоров и богачей, то есть от тех, у кого, как она говорила, «длинные руки». Эти слова возникли в памяти и бомбили разум, с силой прорываясь сквозь время.
– Я никогда не должна была их забывать, никогда, – повторял рассудок.
– Почему ты поверила? – допытывалось сознание.
– Потому что казалось, сеньор не из легкомысленных ветреников и не из заведомых негодяев, – отвечала она сама себе.
Но сейчас…
На руках ребенок, грудь без молока – такова была жестокая реальность, и она противостояла любому заблуждению.
Неожиданно в дверях появилась Маринья. Рената вздрогнула от испуга, увидев ее незрячие глаза с блестящими зрачками и бесцветной радужной оболочкой. Она держала на руках Каталину, завернутую в уютное одеяльце из белой шерсти.
– Ты что-то забыла? – спросила Рената.
– Не знаю, куда Исабела положила пеленки… – ответила Маринья. – Пойдем со мной, сделай милость.
– Дай мне девочку.
Рената взяла Каталину свободной рукой, а Маринья держала ее за плечо, пока они не дошли до спальни.
– Похожи, как две капли воды, – прошептала Рената, посмотрев на девочек вблизи.
Она почувствовала, как часто заколотилось сердце.
– Справляешься с обеими? – спросила кормилица.
Рената кивнула, но Маринья этого видеть не могла.
– Я справляюсь со всем… – прошептала она, укладывая младенцев на кровать.
В этот момент Каталина раскрылась, и оказалось, что под одеяльцем на ней ничего нет.
Рената отошла от Мариньи, оставив ее посреди комнаты, и поняла, что должна сделать это, что сама жизнь предоставляет такую возможность, что ее дочь не должна голодать из-за того, что у нее нет молока, и что материнская любовь к этому беззащитному созданию оправдает то безумие, которое она собиралась совершить.
«Жизнь дает возможность только однажды», – мысленно повторяла она.
Она почувствовала, что Маринья приближается к ней, и затаила дыхание. Быстрым движением она сдернула с Клары пеленку и старенькую распашонку, рассовав их по карманам, и уложила обнаженную девочку на шерстяное одеяльце Каталины. Все произошло со скоростью свершившегося проклятия.
– Возблагодари же эту жизнь. Я такой не заслуживаю…. А вот ты – да. Ты заслуживаешь ее! – шептала она в слезах. – Хотя я и останусь без тебя… и ничто меня не излечит. Хотя я и не знаю, какая буду завтра, когда рассветет, а тебя со мной не будет.
И руки, и колени у нее дрожали.
– Что-то случилось, Рената?
– Не могу найти пеленки, – ответила та сдав-ленно.
В этот момент Маринья, следуя инстинкту, подошла к тому месту, где стояла Рената.
– Ты плачешь? Но почему ты плачешь, женщина? – спросила она с сочувствием.
Рената взглянула на новорожденных девочек и почувствовала угрызения совести.
«Что ты натворила, Рената? Как ты решилась на это?»
В ее взгляде было понимание безумного поступка. На секунду раскаяние охватило душу, и она была почти готова исправить ошибку.
«Что я наделала, Бог мой?»
– Маринья… – она тихо позвала кормилицу.
– Скажи мне, Рената, что случилось?
В голове было пусто. Слова о подмене девочек застряли в горле.
Ее словно парализовало с того момента, когда она положила свою дочь на белое одеяльце, будто именно Клара была ребенком сеньоров Вальдес.
– Никак не могу найти пеленки, Маринья. Возьми свою девочку.
Донья Инес проснулась уже вечером в тот самый понедельник. Ей очевидно стало лучше. Тени под глазами исчезли, но она едва могла сделать несколько шагов по комнате. Она была очень слаба и, когда пришел доктор Кубедо, плакала и стонала. Доктор объяснил это последствиями трудных родов и велел поить липовым отваром. И ни в коем случае не отбирать девочку у Мариньи.
– Пусть она побудет с ней еще день.
В саду, когда доктор прощался с Исабелой, появилась Рената со своей дочкой, привязанной к спине. У Исабелы не хватило духу ни выставить служанку вон из замка, ни передать ей слова сеньора Вальдеса, так что та осталась, где была. Строго говоря, приказ она не нарушила. Сеньор же не запретил ей гулять на свежем воздухе.
Исабела заметила, как изменилась Рената, как будто перенесенные роды погасили живой свет ее глаз.
– С тобой все в порядке, Рената? – спросила она.
– Да, все хорошо, – ответила та, сдерживая слезы.
– Подойди-ка сюда, – сказал доктор Кубедо. – Не нравится мне, что губы у тебя обсыпаны лихорадкой.
Она подошла, и доктор осмотрел открытые ранки на нижней губе. Рената знала, что они появились от горечи и страха, но промолчала, тем более она никогда бы не смогла этого доказать.
– Я сама искусала, доктор. Ничего страшного.
– Промывай их аккуратно. Как прошли роды?
Рената повторила то, что уже сказала Маринье: все прошло быстро, боли особой не чувствовала, разве что некоторое неудобство.
– А плацента?
– Я сама все сделала.
– А твой муж?
– Его не было, доктор. На рассвете я родила сама.
– Почему же ты меня не предупредила, женщина? – спросил врач.
– Потому что донье Инес вы были гораздо нужнее, чем мне.
Он посоветовал Ренате не носить девочку на спине, но та сказала, что ей некуда ее положить. Исабела возразила, что донья Инес приготовила для нее колыбель, такую же, как для своей дочери, и полог такой же, и все остальное.
– И почему ты мне ее не отдала? – спросила Рената.
– Потому что ты не спрашивала.
На этом дискуссия закончилась. Рената поблагодарила, а донье Инес доложили о благополучных родах, когда она перестала плакать.
– Она должна была родиться со дня на день, – сказала она.
В эту ночь дочь служанки спала в хлопковых пеленках и под шерстяным одеяльцем.
Как и дочь госпожи.
Не было ничего странного в том, что дон Густаво поздно вернулся с лесопилки. Его рабочий день всегда заканчивался, когда все давно отужинали. Однако если бы кто-то увидел его, то заметил бы, что он погружен в меланхолию и выглядит словно поникшим. Он никак не отпраздновал понедельник, что делал всегда, слепо веруя в спасительность труда. Он ничего не спросил про новорожденную дочь. И вообще ни с кем не разговаривал, кроме как с Фермином, управляющим и администратором фабрики.
Закрывшись у себя в кабинете с видом на окружающие владения, сеньор Вальдес углубился в раздумья о своей жизни, пытаясь найти объяснение тому, что произошло между ним и Ренатой.
Если обратиться к конкретным фактам, дон Густаво за свою жизнь не сделал ничего плохого. Наоборот: он покинул Кубу и стал управлять фабрикой по заготовке древесины в Пунта до Бико. Он был первым, кто занялся лесопилкой и принес процветание округе. Он целиком посвятил себя донье Инес и сыну Хайме, а теперь и новорожденной девочке, дополнившей смысл его жизни.
– Каталина.
Он прислушался к имени и не нашел в нем ничего, что могло вызвать возражения. «Пусть так и останется, – подумал он, – пускай будет Каталина».
Он не был суеверным и не верил в галисийских ведьм, но был одним из тех, кто не заигрывает с нечистой силой, тем более в Пунта до Бико, где все проклятия сбываются. И тут его охватило беспокойство: а если кто-то знал больше, чем он думает, и теперь захочет его шантажировать?
«Но кто? Ведь Одноглазый-то умер», – спрашивал он себя.
Одноглазый всегда был самым большим завистником в округе. Это был некрасивый человек с желтоватой кожей, резкими чертами лица, длинным носом, маленьким ртом и губами тонкими, как у всех злых людей. Он всегда терпеть не мог дона Густаво за его счастливую судьбу, и с тех самых пор, когда тот приехал с Кубы с красавицей женой Инес, Одноглазый претендовал на его земли, так как уверял, что они принадлежат его семье. «Эти владения мои, этот тип у меня их украл и не имеет права ничего выращивать на этом участке». Не реже одного раза в несколько месяцев Одноглазый пытался с ним судиться. И всегда проигрывал. Так что, не будь дураком, он решил сам вершить правосудие и погубил с помощью яда примерно сотню деревьев дона Густаво. Он не стал утруждать себя; землю не раскапывал и яд в корни не вводил. Он ввел его на уровне человеческого роста и своего выбитого глаза. Мучительная смерть, зато наверняка: древесину больше использовать нельзя. Дон Густаво поклялся, что преступник не увидит эти деревья спиленными, и хотя они занимали место, где могли быть живые деревья, он вбил в землю колья, которые поддерживали стволы, не давая им упасть, и превратил их в поминальную часовню; так они и простояли много лет, пока Смерть с косой не явилась за Одноглазым. Жаль только, что через некоторое время порывы злого ветра с Атлантики грозили их поломать, и потому не стоило рисковать жизнью рубщиков. Так что дон Густаво приказал выкорчевать деревья с корнями. В конце концов, Одноглазого уже не было в живых, так что злорадствовать было некому. А вот что сеньор Вальдес не смог выкорчевать из себя – это страх. Всякий раз, как погибало какое-то дерево, он чувствовал укол в сердце.
«Сколько таких одноглазых в Пунта до Бико?» – спрашивал он себя снова и снова.
Это было единственное, о чем дед, дон Херонимо, его не предупредил.
О злой воле.
Когда он очнулся, была глубокая ночь. Рабочие уже ушли.
Фермина не было.
На лесопилке стояла тишина.
Он подумал о донье Инес и о малышке. Отсутствие новостей за целый день означало, что ухудшений нет. Он вышел из кабинета, прошел мимо строящихся судов, вдыхая запах еще влажной древесины. Закрыл ворота фабрики и пошел по тропинке через свои владения.
Дорога к замку напоминала извилистый коридор, засаженный с обеих сторон каштанами, которые росли здесь еще со времен его деда, дона Херонимо. Они были крепкие, мощные, с живой душой. Они сочувствовали ночному путнику. Заботливо укрывали его своей летней тенью. Они были с ним заодно почти во всем.
В ту ночь казалось, что возвращение длилось бесконечно. Он слышал, как на земле отпечатывались его следы, и на каждом шагу в мозгу возникало какое-нибудь соображение, которое тут же менялось на противоположное. Очевидно, стоило откровенно поговорить с доньей Инес, объяснить ей, что у него произошло с Ренатой, поклясться, что такое больше никогда не повторится. Но только у него получалось найти нужную форму и слова начинали звучать убедительно и уверенно, как он тут же передумывал, и образ служанки из Сан-Ласаро, креолки Марии Виктории, чудился ему среди деревьев.
Его охватила дрожь.
– Выброси ее из головы, Густаво. Выброси ее из головы! – выкрикнул он, охваченный страхом и гневом оттого, что не может привести в порядок собственные мысли.
Когда он вернулся с Кубы, у него это получилось, но сейчас его снова накрыли ярость и заносчивость.
– Мария Виктория, она…
На секунду он умолк, прежде чем произнести оскорбление в ее адрес, от которого стало хуже только ему самому.
Мария Виктория, она…
– Шлюха она последняя! – прорычал он в слезах, как будто эти слова, произнесенные вслух, могли залечить рану.
Его воспитание, все, что он видел и пережил, не позволяли ему брать на себя хоть какую-нибудь ответственность за плотские грехи. Они не касались ни его, ни близких ему людей. Он считал, что женщины легкого поведения всегда обирали мужчин его семьи, а те были словно околдованы ими.
О годах, проведенных на Кубе, дон Густаво помнил почти все, но если и было что-то, о чем он никогда бы не смог забыть, это три смерти, последовавшие одна за другой и оставившие кровавый след на главном предприятии его деда и бабки, которое они подняли с нуля в кубинской провинции Сан-Ласаро в середине XIX века.
Этот сахарный завод с плантацией назывался «Диана». Двести гектаров пахотной земли и еще кое-какие земли под животноводство. Сахарный тростник рос на плантациях круглый год и так приятно было любоваться им на закате дня в золотистых лучах солнца. Поскольку хотелось, чтобы дела шли еще лучше, дон Херонимо вложил все свои сбережения в паровые машины; теперь они приводили в движение мельницы и по сравнению с быками вырабатывали намного больше энергии. Доходы росли, и дон Херонимо, получая хорошую прибыль, распорядился построить жилье для сыновей, Педро и Венансио; младший родился умственно отсталым, и с ним поговорить было не о чем. Он жил в поместье, как король, не доставляя никому проблем и не ударяя палец о палец. Ему разрешили жениться на юной девушке-креолке, которую он имел обыкновение периодически заваливать в кустах и которая в результате забеременела. Родился метис, дед его так никогда и не признал, но и не отверг. Жизнь Венансио кончилась тем, что он изошел кровью, и объяснили это зараженной водой реки; дон Херонимо оплакал его и продолжал заботиться о семье. Венансио Вальдес первым упокоился на кладбище в Сан-Ласаро, в фамильном пантеоне.