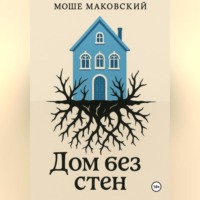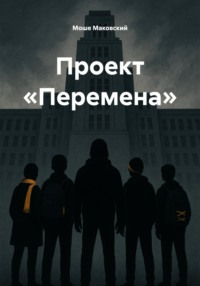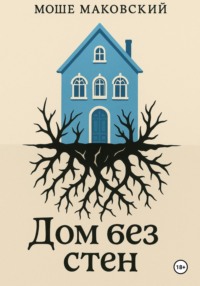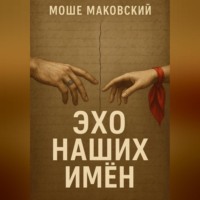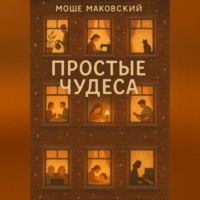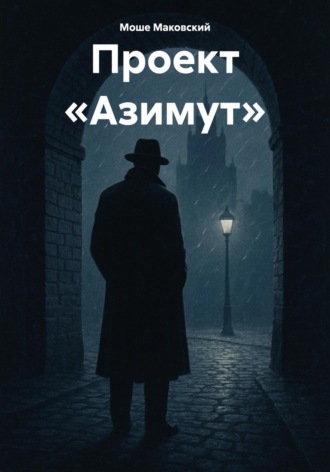
Полная версия
Проект «Азимут»

Моше Маковский
Проект «Азимут»
Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали.
– Станислав Ежи Лец
Глава 1
Августовская жара плавила Москву, превращая воздух в густой, дрожащий кисель. В кабинете капитана милиции Аркадия Соколова, на третьем этаже типового районного управления, эта жара смешивалась с запахом старых бумаг и дешевого табака. Муха, оглушенная зноем, билась о пыльное стекло, и этот монотонный, отчаянный звук был единственным, что нарушало послеобеденную тишину.
Соколов смотрел на муху и думал, что прекрасно ее понимает.
Он сидел за своим столом, заваленным «висяками» – мелкими кражами и бытовыми драками, – и механически перебирал отчеты. Третий год в 114-м отделении. Третий год этого болота после того, как его, следователя по особо важным делам с Петровки, 38, аккуратно «попросили» на понижение. За то, что слишком глубоко копнул в деле о подпольном цехе, ниточки от которого тянулись в кабинет сына одного из членов ЦК. Дело замяли. Карьеру Соколова – тоже.
Надтреснуто зазвонил телефон, и муха, испугавшись, замерла.
– Соколов, – хрипло бросил он в трубку.
– Аркадий, это Пономарев, – раздался в трубке голос начальника, майора Пономарева. – Кончай там пыль глотать. Выезд. Проспект Вернадского, сто двенадцать, корпус три, квартира восемьдесят шесть.
– Что там? Очередной пьяный дебош? – без всякого энтузиазма спросил Соколов.
– Поспокойнее. Старик преставился. Участковый на месте, но там вроде как из «академиков» кто-то, нужна формальность. Врач говорит – сердце. Так что скатайся, составь протокол и закрой вопрос. Дело на час.
«Дело на час». Соколов криво усмехнулся. Вся его нынешняя работа состояла из таких вот «дел на час». Он раздавил в пепельнице окурок «Беломора», надел пиджак, висевший на спинке стула, и вышел из кабинета, кивнув дежурному.
Служебные «Жигули» напоминали раскаленную печку. Продираясь сквозь вязкий московский трафик, Соколов думал о том, что это дело – идеальный «глухарь». Смерть по естественным причинам. Никаких улик, никаких мотивов, никакой тайны. Просто еще один одинокий старик, чье сердце не выдержало этого бесконечного, удушливого лета. Работа для участкового, а не для капитана, который когда-то раскручивал дела, заставлявшие седеть генералов.
Дом на проспекте Вернадского оказался типичной панельной шестнадцатиэтажкой. У подъезда его уже ждал молодой сержант, участковый Лыков.
– Здравия желаю, товарищ капитан! – козырнул он. – Всё как майор доложил. Белозерцев, Игнат Степанович, восьмого года рождения. Соседка снизу вызвала, говорит, ее топить начало. Дверь вскрыли, а он на полу лежит.
– Врач что говорит?
– Борис Захарович из неотложки уже осмотрел. Острая сердечная недостаточность. Говорит, классика.
Квартира на двенадцатом этаже встретила их тяжелым запахом корвалола и застоявшегося воздуха. Это была обычная квартира советского интеллигента: стены, от пола до потолка заставленные книжными стеллажами, старый диван, покрытый пледом, письменный стол с аккуратно сложенными бумагами. В центре гостиной, у опрокинутого кресла, на ковре лежал пожилой мужчина в домашнем халате. Рядом с ним на полу валялся пузырек из-под лекарства.
Врач скорой, пожилой и усталый Борис Захарович, подтвердил свой вердикт.
– Упал, ударился, но смерть наступила раньше. Сердце, Аркадий. Я таких по десять штук в неделю вижу, особенно в такую жару. Можете оформлять.
Участковый уже начал составлять протокол. Все было очевидно. Слишком очевидно. Соколов медленно прошелся по комнате. Он не искал что-то конкретное. Он впитывал атмосферу, отмечая детали, которые не укладывались в картину.
Первое, что его смутило, – это порядок. Идеальный порядок. На письменном столе – ни пылинки. Книги на полках стояли как по линейке. Даже опрокинутое кресло, казалось, упало как-то слишком аккуратно. Человек, хватающийся за сердце в предсмертной агонии, должен был оставить больше хаоса. Смахнуть что-то со стола, зацепиться за скатерть… Но здесь все было стерильно.
Второе – лужица воды на паркете у ног покойного, та самая, из-за которой всполошилась соседка. Она была небольшой, и вода капала с потолка очень медленно, раз в несколько секунд. Соколов поднял голову. На потолке было влажное пятно, но никаких следов прорыва трубы.
– Лыков, на тринадцатый этаж поднимались?
– Так точно, товарищ капитан. Там никого нет, в отпуске семья. Дверь опечатана.
Соколов присел на корточки у тела. Он не был патологоанатомом, но годы работы научили его замечать мелочи. Он осмотрел руки Белозерцева, его лицо. Ничего. Обычный старик. Взгляд его скользнул по ворсистому советскому ковру с выцветшим орнаментом.
И тут он увидел это.
Нечто крошечное, почти невидимое, блеснувшее в лучах солнца, пробивавшихся сквозь тюлевую занавеску. Это был кристаллик, размером меньше спичечной головки, запутавшийся в ворсе ковра в паре сантиметров от рукава покойного. Соколов аккуратно, с помощью пинцета из своего следственного набора, извлек его и положил в маленький бумажный конверт.
– Что это, Аркадий? – лениво поинтересовался врач.
– Похоже на соль, – ответил Соколов, поднимаясь. – Наверное, из солонки просыпал.
Но это не было похоже на обычную соль. Кристалл имел слишком правильную, почти идеальную форму. И что ему делать на ковре в гостиной, вдали от кухни?
– Всё, Захарыч, забирайте, – сказал он врачу. – Лыков, закончишь с протоколом и опросишь соседей. Подробно. Кто заходил, кого видел, что слышал. Мне отчет на стол к утру.
– Так ведь… сердечный приступ, товарищ капитан, – с недоумением протянул сержант.
– Просто выполни приказ, – отрезал Соколов.
Он покинул квартиру, оставив за спиной недоумевающего участкового и санитаров, укладывающих тело на носилки. Весь обратный путь до управления он молчал, ощущая во рту привкус старого табака и зарождающегося азарта, который он не чувствовал уже очень давно. Это было глупо. Иррационально. Кристаллик соли. Что за чушь? Любой другой следователь выбросил бы его и забыл.
Но Соколов не был любым другим.
Вернувшись в свой душный кабинет, он первым делом позвонил знакомому эксперту-криминалисту.
– Петрович, привет. Соколов. У меня к тебе пустяк. Нужно сделать экспресс-анализ… да, кристалла. Похож на соль, но хочу быть уверен. Завезу через полчаса.
Через час, когда солнце уже начало клониться к закату, окрашивая небо в грязно-оранжевый цвет, телефон зазвонил снова.
– Аркадий? Это Петрович. Я посмотрел твой образец. Интересная штука.
– Соль? – спросил Соколов, закуривая очередную папиросу.
– В том-то и дело, что нет. Химическая формула, конечно, хлорид натрия. Но кристаллическая решетка… она другая. Плотнее. Я такую никогда не видел. Это не пищевая соль и не техническая. Даю голову на отсечение, эта штука образовалась не на поверхности Земли. Скорее, при огромном давлении.
Соколов замер с папиросой в руке. Муха на стекле перестала жужжать.
– Что значит – не на поверхности?
– Это значит, Аркадий, – в голосе эксперта звучало профессиональное любопытство, – что твой кристаллик соли, скорее всего, был поднят откуда-нибудь с километровой глубины. Со дна океана, например.
Соколов медленно положил трубку. Дело на час. Сердечный приступ. Он посмотрел на пустой конверт на своем столе.
Океанская соль в квартире московского профессора-картографа, который никогда, судя по документам, не был в морских экспедициях.
В затхлом воздухе его кабинета впервые за три года пахнуло настоящей тайной. И этот запах был Соколову до боли знаком.
Глава 2
Утро не принесло прохлады. Солнце снова взялось поджаривать городские крыши, и в кабинете Соколова уже к девяти часам стало душно. На столе лежал рапорт, аккуратным почерком составленный сержантом Лыковым. Соколов пробежал его глазами, не находя ничего, что могло бы его удивить. Соседи характеризовали профессора Белозерцева как тихого, вежливого, замкнутого человека. Последнюю неделю он, по их словам, выглядел уставшим и жаловался на сердце. Никто из посторонних к нему не заходил. Заключение было однозначным: смерть по естественным причинам. Дело можно было закрывать и сдавать в архив.
Соколов отложил рапорт. Он смотрел на маленький бумажный конверт, в котором все еще лежал странный кристалл. «При огромном давлении… Со дна океана». Эти слова Петровича не шли из головы. Они никак не вязались с аккуратным, предсказуемым миром профессора Белозерцева, каким он выглядел на бумаге.
Он понимал, что идет против всякой логики и инструкций. На основании одного микроскопического кристалла начинать неофициальное расследование – это верный путь к серьезным неприятностям с начальством. Майор Пономарев, если узнает, просто снимет с него голову. Но азарт, тот самый старый инстинкт ищейки, уже проснулся и требовал пищи.
Действовать нужно было осторожно, под прикрытием рутины. Первым делом – личное дело покойного. Соколов спустился в архив, пропахший мышами и ветхой бумагой. Толстая папка с фамилией «Белозерцев И.С.» рассказала ему не много, но дала главное – место работы. Институт океанологии имени П.П. Ширшова Академии наук СССР. Ведущий научный сотрудник, доктор геолого-минералогических наук, специалист в области морской картографии и седиментологии.
«Седиментология». Соколов мысленно произнес незнакомое слово. Наука об осадках. О том, что лежит на дне. Связь между жертвой и океанским кристаллом становилась все более явной.
Институт океанологии располагался в старом здании из желтого кирпича на другом конце Москвы. Попав внутрь, Соколов ощутил себя в ином мире. Вместо суеты и запаха дешевых папирос его отдела, здесь царили тишина, прохлада и едва уловимый аромат старых книг и озона от работающей аппаратуры. По длинным коридорам бесшумно ходили люди с сосредоточенными лицами, из-за дверей доносилось негромкое гудение приборов. Это был храм науки, и он, капитан милиции в своем помятом пиджаке, чувствовал себя здесь чужеродным элементом.
Его направили к заведующему отделом картографии, профессору Ананьеву – сухопарому человеку в очках с толстыми линзами, которые делали его глаза похожими на глаза рыбы.
– Капитан Соколов, – представился Аркадий, показав удостоверение. – По поводу смерти Игната Степановича Белозерцева. Простая формальность.
Ананьев сжал тонкие губы.
– Ужасная трагедия. Игнат Степанович был одним из лучших наших специалистов. Столп, можно сказать. Сердце… он никогда на него не жаловался. По крайней мере, мне.
– Каким он был в последнее время? – спросил Соколов, усаживаясь на предложенный стул. – Может, был чем-то обеспокоен? Конфликты на работе?
– Что вы, капитан! – Ананьев даже слегка оскорбился. – У нас научное учреждение, а не коммунальная квартира. Конфликтов не было. А что до беспокойства… В последнее время он, как и многие из нас, был полностью поглощен работой. Очень важный проект.
Соколов почувствовал, как напряглись его нервы.
– Проект?
– Совершенно секретный, разумеется, – профессор понизил голос. – Государственной важности. Большего, извините, сказать не могу. Но Игнат Степанович был одним из ключевых его участников.
– Он работал один?
– Нет, конечно. Это была большая междисциплинарная группа. Лучшие умы.
Ананьев явно хотел поскорее закончить разговор. Он смотрел на Соколова с плохо скрываемым нетерпением ученого, которого отрывают от важных дел ради какой-то бюрократической ерунды. Соколов понял, что в лоб от него ничего не добиться.
– Понимаю, – сказал он, поднимаясь. – Что ж, спасибо за уделенное время. Просто… тяжелый год для вашего института, наверное. Несчастные случаи в таком коллективе всегда бьют по моральному духу.
Профессор нахмурился, поправляя очки.
– Что вы имеете в виду?
– Я имел в виду только смерть Белозерцева, – спокойно ответил Соколов, внимательно глядя на Ананьева.
В этот момент в кабинет заглянул молодой парень в очках и с копной взъерошенных волос.
– Профессор, вы просили карты арктического шельфа… Ой, извините.
– Войди, Слава, – устало сказал Ананьев. – Товарищ капитан уже уходит.
Соколов задержался в дверях.
– Простите за любопытство, – сказал он, обращаясь к парню. – Вы ведь тоже работали с Игнатом Степановичем?
– Да, я его аспирант, – смущенно ответил тот.
– Говорят, светило был, – продолжил Соколов. – Жаль, когда такие люди уходят. Не везет вашему институту в этом году.
Аспирант понурил голову.
– Это точно… Просто полоса какая-то черная. Сначала Павел Игоревич Киреев, потом Андрей Николаевич Воронов, теперь вот Игнат Степанович… Как будто проклял кто-то наш отдел.
Соколов почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он заставил себя сохранить безразличное выражение лица.
– А что случилось с вашими коллегами?
– Слава! – резко оборвал его Ананьев. – Не отвлекайся. Товарищ капитан очень занят.
Но было уже поздно. Соколов мягко улыбнулся аспиранту.
– Всего один вопрос, и я не отниму у вас ни минуты.
– Павел Игоревич в автокатастрофе погиб, месяц назад, – быстро заговорил Слава, игнорируя грозный взгляд профессора. – Он у нас лучший гидроакустик был. А Андрей Николаевич… с балкона упал, две недели назад. Несчастный случай. Говорят, голова закружилась. Он океанограф. Все из нашей группы…
Соколов кивнул, словно услышал совершенно незначительную информацию.
– Понятно. Соболезную вашему горю. Спасибо, профессор. Больше не смею задерживать.
Он вышел из кабинета и прошел по тихому коридору к выходу. Но тишина больше не казалась ему умиротворяющей. Теперь она звенела от напряжения.
Три смерти за полтора месяца. Все – несчастные случаи.
Гидроакустик. Океанограф. Картограф.
И все – из одной секретной проектной группы.
Это уже не было случайностью. Это был паттерн. Четкий, как линия на кардиограмме остановившегося сердца.
Выйдя на залитую солнцем улицу, Соколов зажмурился. Он больше не сомневался. Профессор Белозерцев не умер. Его убили. Как и двоих его коллег. И где-то в этом городе был убийца, который методично и хладнокровно убирал лучших ученых страны, одного за другим.
Вопрос был лишь в одном: что за тайну они унесли с собой на дно своих могил?
Глава 3
Соколов вел «Жигули» обратно в управление на автопилоте. Шумный, залитый солнцем город за лобовым стеклом превратился в смазанное пятно. В голове стучал пульс, и три фамилии вращались, как жернова: Белозерцев, Киреев, Воронов. Картограф, гидроакустик, океанограф. Три «несчастных случая». Три специалиста из одной секретной группы.
Инстинкт, отточенный годами на Петровке, кричал, что это – серия. А любая серия оставляет за собой след из бумаг. Первое правило следователя: изучи дело. Он должен был увидеть протоколы, заключения экспертов, опросы свидетелей по делам Киреева и Воронова. Где-то там, в этих пыльных страницах, могла быть зацепка. Такая же маленькая и невзрачная, как кристаллик соли.
Вернувшись в свой кабинет, он первым делом набрал номер архива ГУВД.
– Капитан Соколов, сто четырнадцатое отделение. Мне нужны два дела для ознакомления. ДТП, месяц назад, погибший – Киреев Павел Игоревич. И несчастный случай, падение с высоты, две недели назад, погибший – Воронов Андрей Николаевич.
На том конце провода помолчали. Затем незнакомый женский голос ответил сухо и официально:
– Минуту.
Соколов ждал, слушая треск в трубке. Он уже знал, что услышит.
– Капитан, по вашему запросу. Дело по гражданину Воронову было изъято в спецхран две недели назад. Дело по ДТП с гражданином Киреевым – три недели назад.
– Кем изъято? На каком основании?
– У нас нет такой информации, – голос стал ледяным. – Доступ к делам закрыт.
Соколов медленно повесил трубку. Вот оно. Прямое подтверждение. Дела не просто закрыли по-тихому. Их зачистили. Забрали туда, куда капитану из районного отдела вход был заказан. Так работала только одна организация в стране. «Контора». Комитет Государственной Безопасности.
Кровь отхлынула от его лица. Одно дело – расследовать убийство, даже самое запутанное. Совсем другое – совать нос в дела, которыми занимается КГБ. Это была не его весовая категория. Это был прямой путь к увольнению в лучшем случае. В худшем – можно было и самому случайно упасть с балкона.
Он подошел к окну. Внизу текла обычная жизнь: спешили по делам люди, ползли троллейбусы, во дворе мальчишки гоняли мяч. Нормальный, понятный мир. А он стоял на пороге чего-то совершенно иного. Темного, безмолвного, как океанская впадина. Нужно было остановиться. Сдать рапорт Лыкова в архив, сжечь дурацкий конверт с кристаллом и забыть. Жить дальше своей тихой, предсказуемой жизнью в пыльном кабинете.
Но он не мог. Образ трех мертвых ученых стоял перед глазами. Они что-то знали. Что-то настолько важное, что заставило самую могущественную структуру в государстве не просто убить их, но и тщательно вымарать все следы.
Соколов надел пиджак. Был только один человек, с которым он мог об этом поговорить.
Квартира Михаила Тарасовича на Малой Бронной встретила его знакомым запахом крепкого табака и старых книг. Хозяин, его бывший наставник и коллега, которого все за глаза звали «Архивариус», сидел в глубоком кресле у окна. Худой, с пергаментной кожей на лице и с пальцами, навсегда пожелтевшими от никотина, он казался частью своего антикварного интерьера. Но глаза за стеклами очков были острыми и живыми.
– Проходи, Аркаша, садись, – проскрипел он, не вставая. – Какими ветрами? Давно ты ко мне не заглядывал. Неужели в твоем болоте что-то интересное завелось?
Соколов сел напротив, на краешек дивана. Он коротко, без эмоций, изложил все: смерть Белозерцева, странный кристалл, институт, еще две смерти, зачищенные архивы. Архивариус слушал молча, постукивая сухим пальцем по подлокотнику кресла. Когда Соколов закончил, он долго молчал, глядя в окно.
– Дела изъяты в спецхран, говоришь? – наконец произнес он. – Это их почерк. Аккуратный, тихий и окончательный. Ты понимаешь, куда лезешь?
– Понимаю, – глухо ответил Соколов.
– Нет, не понимаешь, – Архивариус повернулся к нему, и его взгляд стал жестким. – Ты привык иметь дело с ублюдками, ворами и убийцами. У них есть мотивы: жадность, ревность, страх. Они оставляют следы, они делают ошибки. А у этих… у них нет мотивов. У них есть приказ и государственная необходимость. Они не делают ошибок. И следов они не оставляют. Если они решили, что эти трое должны были умереть тихо, значит, так оно и было. А ты со своим кристаллом – песчинка в механизме. Попадешь между шестеренок – даже скрипа не будет.
Михаил Тарасович достал папиросу, размял ее и закурил, выпустив облако едкого дыма.
– Бросай это дело, Аркадий. Немедленно. Сожги все свои записи. Забудь. Это мой тебе совет. Как старшего товарища.
Соколов смотрел на своего наставника. Он знал, что тот прав. Каждое его слово было правдой. Но отступить он уже не мог.
– Я не могу, Михаил Тарасович. Не после того, как узнал о тех двоих. Это уже не просто подозрение.
Архивариус долго смотрел на него, потом тяжело вздохнул. В его глазах промелькнуло что-то похожее на смесь восхищения и сочувствия.
– Упрямый дурак. Таким и был. Ладно… Дела я тебе достать не смогу. Это невозможно. Но я могу попробовать узнать, кто их вел. И может быть… может быть, достану копии заключений судмедэкспертов. Самые первые, до того, как их подчистили. Но на это нужно время.
Он встал и подошел к книжному стеллажу, заваленному папками.
– А ты пока займись другим. Перестань думать как милиционер. Забудь про протоколы и улики. Этих людей убили не за то, что они кому-то перешли дорогу. Их убили за то, что они знали. Поговори с людьми в институте. Не с начальством. С аспирантами, лаборантами, с уборщицей. Узнай, чем они жили вне работы. С кем дружили, чего боялись, о чем шептались в курилке. Ищи не убийцу. Ищи тайну.
Соколов поднялся. На душе стало одновременно и тяжелее, и легче. Он был больше не один.
– Спасибо, Михаил Тарасович.
– Не за что пока, – пробурчал старик, отворачиваясь. – И будь осторожен, Аркаша. Очень осторожен. С этого момента считай, что у тебя за спиной всегда кто-то стоит.
Выйдя на улицу, Соколов вдохнул горячий вечерний воздух. Совет Архивариуса был единственно верным. Чтобы понять, почему ученые умерли, нужно было сначала понять, как они жили. И с кем.
Он вспомнил испуганного аспиранта Славу и еще одно имя, которое тот обронил. Андрей Николаевич Воронов. Океанограф, который «упал с балкона». С чего-то нужно было начинать. И квартира покойного казалась самым логичным местом.
Глава 4
Следующий день Соколов начал не в своем кабинете. Официально он взял отгул по семейным обстоятельствам, сославшись на мнимую болезнь тети. Майор Пономарев, занятый подготовкой к партийному собранию, лишь отмахнулся. Это развязывало Аркадию руки.
Его целью была квартира покойного океанографа Андрея Воронова. Сталинская высотка на Котельнической набережной. Совсем другой уровень, нежели панелька Белозерцева. Здесь жили люди со статусом. Соколов не стал подниматься. Он знал, что квартира опечатана и вскрыта, скорее всего, теми же, кто зачистил архивы. Его интересовали не вещи, а связи.
Он нашел то, что искал, на скамейке у подъезда. Три старушки, «местная разведка», бдительно сканировали всех входящих и выходящих. Соколов присел на соседнюю скамейку, закурил и стал ждать. Долго ждать не пришлось.
– И не признаешь, милок, – обратилась к нему самая бойкая из старушек в пуховом платке, несмотря на жару. – Не из нашего дома.
– В гости, – неопределенно ответил Соколов. – К знакомому. Да вот, говорят, нет его больше. Андрей Николаевич Воронов, не знали такого?
Лица старушек мгновенно приняли скорбно-заговорщическое выражение.
– Как же не знать! – запричитала та, что в платке. – Андрей Николаич, душа-человек! Тихий, вежливый. И такое горе… Говорят, давление подскочило, голова закружилась, вот и шагнул с балкона… А ведь не старый еще был, и не пьющий.
– Ужасная трагедия, – поддакнул Соколов. – Один жил?
– Один, как перст. Вся жизнь – в книжках да в работе. К нему только коллеги забегали иногда, да еще Леночка, ученица его. Девочка славная, так убивалась, так убивалась… Прямо почернела вся от горя.
Соколов почувствовал укол интереса.
– Леночка?
– Федорова, кажется, – подхватила вторая старушка. – Она после… после всего приходила, вещи его помогала разбирать, книги. Мы еще подумали, какая молодец, не бросила память учителя.
Елена Федорова. Ученица. Это была ниточка. Тонкая, но настоящая. Он поблагодарил старушек и поехал обратно в Институт океанологии.
На этот раз он не пошел внутрь. Официальные визиты закончились. Он припарковал «Жигули» на противоположной стороне улицы, откуда хорошо просматривался вход, и стал ждать. Ждать он умел. Этому его научила работа на Петровке, где часы, проведенные в засаде, часто приносили больше плодов, чем самые яростные допросы.
Около шести вечера сотрудники института начали расходиться. Соколов всматривался в лица, пытаясь угадать, которая из выходящих женщин – та самая Леночка. Через десять минут он ее увидел. Молодая женщина с короткой стрижкой темных волос, в строгом платье, с большой сумкой через плечо. Она шла быстро, глядя себе под ноги, и во всей ее фигуре сквозило такое напряжение, что Соколов узнал ее сразу. Это было не горе. Это был страх.
Он дал ей дойти до угла, а затем быстро пересек улицу и нагнал ее.
– Елена Федорова?
Она вздрогнула и резко обернулась. Ее глаза – большие, серые, испуганные – впились в него.
– Кто вы?
– Капитан Соколов. Милиция, – он коротко показал удостоверение и тут же убрал его.
Паника в ее глазах сменилась ледяной настороженностью.
– Я не понимаю. По поводу Андрея Николаевича? Так ведь… дело давно закрыто. Это был несчастный случай.
Ее голос был тихим, но твердым, как будто она повторяла заученную роль.
– Я знаю, что написано в официальном заключении, – мягко сказал Соколов, стараясь не спугнуть ее окончательно. – Я по другому вопросу. Скажите, Андрей Николаевич не говорил вам перед смертью о чем-то необычном? Может, он чего-то опасался? Или кто-то ему угрожал?
Она побледнела и отступила на шаг.
– Нет. Ничего такого не было. Он просто… плохо себя чувствовал. Давление. Вы меня извините, я очень спешу.
– Елена, это важно, – он попытался преградить ей путь. – На днях умер еще один ваш коллега. Игнат Степанович Белозерцев.
При имени Белозерцева она вздрогнула так, будто ее ударили. Но страх лишь придал ей сил.
– Я ничего не знаю, – отчеканила она, обходя его. – Пожалуйста, оставьте меня в покое.