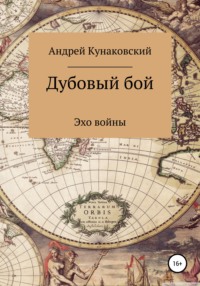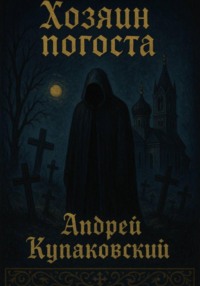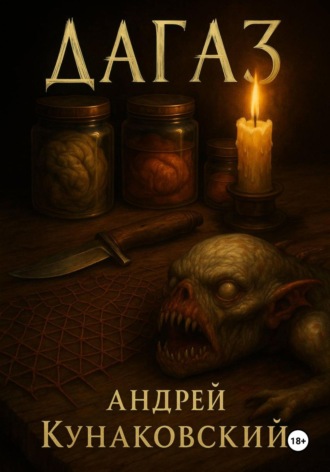
Полная версия
Дагаз. Проклятие Крона
Воспоминания исчезли так же резко, как и появились. Это было давно, но, смотря на свои руки в грязи и крови, он думал, что прошла вечность. Верёвка обтянула под висячую грудь болотника. Нужно тянуть в Чисть. Доказательство.
Тянуть тушу болотника по зыбкой тропе было адской работой. Каждый метр давался с боем: грязь засасывала сапоги, корни цеплялись за сеть, в которую был укутан трофей, а ноющий гул в костях не умолкал ни на секунду, напоминяя о расплате за недавнюю ярость. Но вот под ногами почва стала тверже, из сырого чернозема превратившись в утоптанную, слегка подсыхающую грязь деревенской улицы. Воздух переменился. К привычной болотной триаде – гнили, тине и медному душку крови – примешались новые ноты: дым печных труб, запах свежего хлеба из крайней избы и едва уловимый, но стойкий аромат навоза и прелого сена. Для любого другого носа это была бы вонь. Для Дагаза, чье обоняние было испорчено зельями, это пахло… жизнью. Тяжелой, простой, но жизнью.
Деревня Чисть встретила его не стеной, а скорее частоколом из испуганных и любопытных взглядов. Он появился из топи, как призрак, весь в засохшей грязи и бурых пятнах, волоча за собой на веревке бесформенный, уродливый ком слизи и кожи.
Первыми его увидели дети, гонявшие кур на окраине. Их веселый визг смолк. Одна девочка, лет семи, с льняными волосами, выпачканными в землянике, просто замерла с раскрытым ртом, а потом с тихим всхлипом шмыгнула за плетень.
Из открытых дверей хлева высунулся старик, косец в руке. Увидев Дагаза и его ношу, он не крестился, не испугался. Просто кивнул с мудрым, усталым пониманием, будто увидел предвестника дождя – явление неприятное, но необходимое. Его взгляд был лишен ненависти. Лишь глубокая, вековая усталость.
Мужики, чинившие телегу у амбара, застыли на месте. Их разговор о сгнившей оси резко оборвался. Один судорожно поправил рубаху, другой опустил взгляд, делая вид, что с невероятным интересом изучает трещину в колесе. В их позах читалось не столько отвращение, сколько опасливое уважение, смешанное с суеверным страхом. Они боялись не его – они боялись того, что он несет на себе: запаха смерти, боли и того незримого края, за которым кончается их мир и начинается царство тварей и кошмаров. Они боялись, что это прилипчиво.
И тут он увидел их. Девушки возвращались от колодца. Та, что с венцом из темной косы, встретилась с ним взглядом. И не отвела его сразу. В ее глазах, цвета спелой сливы, промелькнуло нечто, от чего знакомый, давно подавляемый жар кольнул Дагаза под ложечкой. Не жалость. Вызов. Быстрый, скрытый взгляд, скользнувший по его широким плечам, по мышцам, играющим на предплечьях, и тут же устремленный в сторону. Ее подруга, румяная, полненькая, аж подпрыгнула, увидев тушу, и зашикала: «Ой, гляди, какая мерзость!», но сама не могла оторвать глаз. Дагаз почувствовал, как сжимаются его кулаки. Он хотел. Не ее конкретно, а того, что она олицетворяла – тепла, простоты, жизни. И он ненавидел себя за это желание, за эту слабость, за ту пропасть, которую он сам чувствовал между их миром и своим. Он не изгой. Он тот, кто платит за их безопасность своей кровью, и он имеет право на долю их простого мира. Хотя бы на взгляд.
Дверь в самую большую избу распахнулась, и на пороге возник Игнат. Рука его, широкая в костяшках, уверенно лежала на притолоке, а не теребила подол рубахи. В глазах не было и следа вчерашней бледной паники – только привычная, набрякшая житейскими заботами усталость и деловая собранность.
– Дагаз, – его голос прозвучал низко и ровно, без дрожи. – Слово держишь.
Он двинулся с крыльца тяжелой, уверенной походкой хозяина, на чьей земле всё лежит на своих местах.
Дагаз коротко кивнул.
– В камышах, говоришь, взял его? – Игнат скосил глаза на бесформенную тушу болотника, и на его лице мелькнуло нечто вроде профессионального любопытства трактирщика, разглядывающего особенно крупного пойманного рака.
– Там, – буркнул Дагаз.
– Шкура, поди, никудышная? Вся в слизи…
– Моя забота.
– Ну, да, ясно дело, – Игнат отмахнулся, словно от назойливой мухи. Потом обернулся к избе. – Эй, Федот! Сыновей зови, эту… штуковину на колья у частокола! Пусть все видят, что с болотной нечистью у нас разговор короткий!
Он повернулся обратно к Дагазу, и в его взгляде появилась тень чего-то, что могло сойти за подобие уважения. Сурового, вынужденного.
– Щи сегодня у нас с салом, густые. И водка клюквенная, ядреная, с перцем. С дороги проймет до костей. Заходи, коли дело сделано. Места хватит.
Предложение прозвучало не как сердечное приглашение, а как отдание долга. Часть негласного договора между тем, кто живет в деревне, и тем, кто держит ее границы от тварей. Ритуал.
Дагаз почувствовал, как слюни побежали от запаха, шедшего из избы – тушеной капусты, говядины, черного хлеба. Против этого аромата его собственная вонь казалась ему особенно уродливой.
– Быстро, – хрипло согласился он, скидывая у порога самые грязные мешки.
Внутри было тесно, душно и по-настоящему тепло. Жена Игната, женщина с лицом, как печеное яблоко, молча поставила перед ним глиняную миску, полную до краев. Она не улыбнулась, но и не сморщилась. Ее взгляд был обращен внутрь, на свои хозяйственные думы, словно этот замогильный гость был всего лишь частью интерьера – необходимым, но неинтересным.
Он ел быстро, жадно, почти не глядя, запивая щи доброй полной кружкой кваса. Настойку, которую Игнат налил в грубую деревянную стопку, опрокинул одним движением. Огонь растекся по желудку, на миг отогнав вечный внутренний холод. Разговора не вышло. Игнат пробормотал что-то о ценах на соль в городе, Дагаз хрипло пробурчал в ответ. Они сидели в молчаливом, но не неловком перемирии, как два усталых работника после тяжелого дня.
Минут через десять Дагаз отодвинул пустую миску.
– Пора.
– Ну, с богом, – сказал Игнат, кивая. Отношения приостановлены до новой угрозы.
Дагаз вышел, не оглядываясь на возвращающуюся к своей обычной жизни деревню, зашагал прочь по знакомой тропе. Он был нужен. На время. И это было одновременно и горько, и достаточно. Радует, что взял Сигу пару кусочков, – мелькнула последняя мысль, прежде чем сознание вновь сузилось до боли в костях и звона в ушах.
Глава 3. Преданность
Дверь хижины скрипнула, прогнувшись, как кость на изломе. Дагаз ввалился внутрь, волоча за собой тяжелый мешок со шкурой болотника; нестерпимое зловоние, казалось, уже пропитало всё вокруг. Запах болота – гниль, тина, сладковатый трупный дух – въелся в поры кожи и одежды. Он швырнул мешок в угол, где тот тяжело шлепнулся о глиняный пол, выпустив новую волну смрада. Арбалет последовал за ним, глухо звякнув о бревенчатую стену.
Тяжелый воздух хижины – запах старого дерева, пыли, тушеной картошки – ударил в нос после болотной вони. Запах норы. Зато своей. Дагаз прислонился к косяку, чувствуя, как ломота в костях наливается свинцовой тяжестью. Каждый сустав скрипел, каждый шрам на предплечьях ныл глухой, назойливой болью.
Он открыл глаза, потому что Сиг тыкался мокрым носом в его потрескавшиеся ладони. Пёс вилял хвостом, наконец-то дождавшись хозяина. Слабая, кривая улыбка пробилась сквозь маску грязи на лице Дагаза. Нужно было поесть и покормить друга. Еда из дома старосты растворилась в выпитых зельях. Хорошо, что оставалась еще половина коровы. Отрезав большой кусок, он умело разделал его: часть бросил на сковородку, уже стоявшую на жаровне, другую – в котелок, где на соседних углях уже пыхтела каша из дикой полбы с кусками сала.
Дагаз смотрел на Сига, и старый шрам, видневшийся сквозь густую шерсть пса, болезненно ударил в память, навязывая воспоминания.
Не образ. Запах. Запах тролля. Настоящего, молодого, из тех, что днюют в каменных норах под корнями старых ив. Гнилая тухлятина, въевшаяся в шкуру намертво. Сладковатый дух влажного камня, покрытого лишайником. И острый, ядовитый аромат бледных поганок, растущих прямо на его бородавчатой спине. Запах тупого, первобытного зла.
Дагаз выслеживал тогда водяную змею для шкуры, а нашел это. Солнце, пробиваясь сквозь туман, золотило болотные пушицы, превращая их в сияющие островки. Стрекозы, словно живые самоцветы, вибрировали в воздухе. Тишину нарушал лишь шелест камыша да далекий, скрипучий крик цапли.
И тут – рев. Волна звука, от которой сжались легкие, задрожали колени, а земля под ногами – зыбкая, предательская топь – заходила ходуном. Кровь стыла в жилах, превращаясь в ледяную крошку. Он присел, укрывшись за корягой, облепленной ярко-оранжевым мхом. Сердце колотилось, пытаясь вырваться из груди.
И он увидел. Сквозь завесу серого тумана и плакучих ветвей. Огромная, покрытая бородавками, мхом и сизыми лишайниками лапища. Размером с телегу. Она сжимала маленький, отчаянно визжащий черный комок. Щенка. Откуда он здесь взялся? Тролль, похожий на оживший, покрытый слизью валун, поднес добычу ко рту – широкой, мокрой щели, усеянной обломками зубов цвета гнилого дерева. Лакомство. Просто закуска.
Нет.
Мысль была чистой, яростной искрой. Пронзительное «Нет!», вырванное из самого нутра. Он даже не помнил, кричал ли это он. Тело работало, сознание отставало от рефлексов. Помнил лишь яростный рывок. Через хлюпающую жижу, мимо мерцающих бирюзой болотных огоньков, прямо на гиганта.
Клинок тяжелел в руке. Он искал уязвимое место. Знал же, что тролли при дневном свете не так сильны и неуклюжи. Главное – попасть в соединение копчика и хребта, чуть повыше основания хвоста.
Дагаз бросился вперед, как сорвавшийся с привязи пес. Троллю стало интересно, что же на него такое маленькое двигается. Ещё закуска?
Закуска, которая подпрыгнула и всадила острие сакса с размаху в огромный, мутно-желтый глаз тролля. Прямо в зрачок, размером с кулак Дагаза. Хруст был отвратительным – влажным, хлюпающим. Точно давишь перезрелую сливу.
Жуткий, режущий уши вопль разорвал туман. Визг чистой боли и ярости, от которого содрогнулся воздух. Тролль рванул головой. Охотник взлетел вместе с оружием. Гигантская лапа разжалась инстинктивно.
Черный комок полетел вниз. Лютич перевернулся в воздухе и упал на землю, сгруппировавшись. Рванулся вперед, под градом брызг горячей, вонючей тролльей крови и слизи. Поймал щенка на лету. Теплый. Дрожащий. Весь липкий от слюны чудовища, пахнущей падалью и болотом. Маленькое сердечко колотилось о его ладонь, как птичка в клетке. Он прижал его к груди, чувствуя крошечные коготки, впившиеся в кожу.
И побежал. По зыбкой, предательской топи, где каждый шаг мог стать последним. За спиной – вой разъяренного тролля, от которого сжималось сердце. Грохот ломаемых деревьев – старые ивы падали, как тростинки, под слепыми ударами исполина. Земля дрожала. Клочья тумана рвали крики яростной боли чудовища.
Выносливости не хватало. Легкие горели. Ноги стали ватными, вязли в трясине по колено. Щенок жалобно скулил, прижавшись к нему. Тролль приближался. Его топот был как землетрясение. Дагаз почувствовал горячее, зловонное дыхание на затылке. Отчаяние сжало горло.
Зелье.
Единственная склянка. Хорошо, что взял с собой. Мутная, зеленая жижа в пузырьке на поясе. Гадость редкостная. Сводит с ума и кости ломает изнутри. Но дает силу. Скорость.
Он выхватил пузырек. Зубами вытянул пробку. Выпил залпом. Густая, горькая, как полынь и перегной, жижа обожгла горло. Тошнота ударила в голову. Потом – взрыв. Огненная волна прокатилась по жилам. Ломота в мышцах сменилась стальной пружиной. Туман перед глазами стал четче, звуки – острее, но окрасились в багряные тона безумия. Сердце забилось, как бешеный барабан.
Щенка он сунул в полый пень. Дагаз рванул ноги из трясины с ревом, больше похожим на звериный рык. Зелье гнало вперед, притупляя страх, обостряя инстинкт. Великан нагнал добычу, с зубов капала жижа, перемешанная с кровью. На его лице растянулась ухмылка. Он отомстит. От зелья пластины под кожей взвыли не предупреждающим гулом, а боевой песней – яростной, жгучей, выжигающей остатки боли и страха. Дагаз теперь не просто чувствовал намерения тролля – он «видел» их мысленными всплесками, похожими на удары грома в мутном небе.
Здоровенная лапа приземлилась на мягкую болотную землю. Лютич прошмыгнул прямо под ногами чудовища, зацепился за хвост, который еле помещался в ладонь. Тварь инстинктивно дёрнула отростком, подняв Дагаза. Охотник оказался там, где нужно. У молодого тролля в месте сочленения лопатки ещё была не огрубевшая кожа. Сакс вошёл, разрывая плоть. Тролль заорал и рухнул на землю. Перевернулся так резко, что Дагаз еле успел спрыгнуть. Чудовище не было готово сражаться дальше; скуля, оно поползло прочь, вглубь болота, зло поглядывая на человека. Дагаз не собирался его добивать. Сам не знал почему. Думал о щенке. Впервые за долгое время думал о ком-то, кроме себя. Он развернулся и побрел к пню, где маленький черный комочек скулил и плакал, боясь, что его снова бросили.
Сквозь камыши, сквозь хороводы болотных огоньков, сквозь стены тумана, которые теперь казались живыми, тянущимися к нему серыми щупальцами. Он прыгал через топкие места, где раньше увяз бы по уши, скользил по кочкам, как тень. Зелье ещё работало, нужно было добраться до дома.
Хижина виднелась впереди. Он упал. Не от слабости. От зыбкости почвы. В грязь, в папоротники, пахнущие медью и сыростью. Прикрыл щенка всем телом, вжался в холодную жижу. Ждал. Здесь удар мог последовать отовсюду. В ушах звенело. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот вырвется из груди. Тело горело изнутри от зелья, а снаружи леденело от болотного холода.
Удар не пришел.
Только вой. Далекий. Полный бессильной ярости. И тишина. Тяжелая, звенящая, нарушаемая лишь его хриплым дыханием, скулением щенка и… внезапным, чистым, как серебряный колокольчик, криком невидимой болотной птицы. Туман медленно танцевал в лучах заходящего солнца, окрашиваясь в розовое и золотое. Красота вернулась. Страшная. Очищающая.
Он поднялся. Дрожащий. Весь в грязи, тине, тролльей слизи и крови – своей и чужой. Зелье отступало, и вместе с силой из него уходило всё тепло, оставляя леденящую пустоту. Костяные пластины, минуту назад горевшие яростью, теперь ныли так, будто их выдирали из живого мяса. Из носа потекла струйка крови. Щенок затих, прижимаясь к его шее мокрым носиком. Он побрел. К хижине.
Полумрак. Запах сырости, старого дерева и остывшего пепла. Он сидел на глиняном полу у потухшего очага. Весь в ссадинах, царапинах от веток, грязи, засохшей коричневой коркой. Руки дрожали. От усталости. От отката зелья. От пережитого ужаса. Перед ним, на клочке грубой ткани, дрожал черный комок. Щенок. Глаза – огромные, влажные, темные, как сама топь ночью – смотрели на него без страха. С немым вопросом. И… доверием.
На тряпке лежал последний кусок черствого, как камень, хлеба и ломтик вонючей солонины – его ужин. Он разломил хлеб пополам. Смочил в воде из ковша. Размягчил солонину пальцами, разорвав на крошечные волокна. Медленно, аккуратно, протянул щенку. Тот потянулся, обнюхал липкие пальцы, потом осторожно взял пищу. Жадное, громкое чавканье наполнило хижину.
Дагаз смотрел, как щенок ест. Чувствовал крошечное тепло его тела у своих ног. Резко поднялся, вспомнив про молоко. Крестьяне недавно давали. Он сам его не пил – от коровьего молока ему становилось хуже, чем от зелий, – но щенку оно было нужно. Нашел глиняную кружку, отлил в миску.
Тот сунул морду, торопясь, фыркая. Даже из смешного носа потекло. Охотник видел, как он, наевшись, неуклюже подполз ближе, ткнулся мокрым носом в его грязную ладонь. И уснул там, свернувшись клубком, тихо посапывая. Единственное живое существо во всем мире, которое не боялось его вони, его злобы, его проклятой бедности. Которое видело его. Преданный. Настоящий. Как Сигвальд.
Будешь Сиг, – вырвался голос Дагаза. Он пошатнулся, так привык к тишине и молчанию.
Пёс лизнул его руку снова. Шершавый, теплый язык по заскорузлой грязи и запекшейся крови болотника. Дагаз вздрогнул, словно ошпаренный, вырвавшись из тисков памяти. Вернулся в хижину, в настоящее. Он посмотрел в темные глаза пса, теперь взрослого, сильного, с белым шрамом через плечо – немым свидетельством той встречи. В них все еще читалась та самая жалость. Глубокая, понимающая. И знание. Знание истинной цены каждого его возвращения, каждой капли пролитой на болоте крови. Знание той бездны, из которой Дагаз когда-то вытащил его самого.
Сиг, – хрипло выдохнул Дагаз, голос скрипел, как несмазанная дверь. – Налетай. Всё уже остыло, можно есть.
Они ели. И в эти мгновения были счастливы.
Топь накрывалась ночной тенью. «Сколько же всего здесь водится», – подумал Дагаз, стоя в дверном проеме. Он оттолкнулся от косяка, чувствуя, как старые шрамы натянулись. Пошел к очагу, чтобы подогреть воду. Хотя бы смыть болото. Хотя бы верхний слой. Хотя бы на время.
Пёс поднялся беззвучно, потянулся, зевнув. Затем последовал за ним. Устроился у его ног, положив тяжелую морду на лапы. Его черный бок поднимался и опускался ровно. Сиг. Ждал. Всегда ждал. Единственная нить, связывающая с тем миром, что остался за стеной гнетущей тишины. Тишиной, которую нарушало лишь его спокойное и верное дыхание.
Глава 4. Путь в Крон
Холодный осенний дождь хлестал по спине, превращая дорогу в сплошную коричневую жижу. Тяжелый мешок со шкурами нещадно тянул плечи, врезаясь ремнями в тело. Знакомый коктейль из болотной гнили, медвежьего жира и запекшейся крови намертво въелся в кожу и одежду. Рядом, не отставая ни на шаг, шел Сиг, его темная шерсть слипалась от влаги, но он стойко переносил непогоду.
Они покидали Топи. Добровольно? Нет. Это был приказ. Вживленный под кожу затылка осколок кости Крона ныл глухой, назойливой болью, отзываясь на каждый шаг. Сигнал. Пора было отметиться. Путь лежал мимо Велехольма. Домой. Само слово обжигало изнутри горечью старой желчи. Крон. Каменное чрево в горах. Лаборатория, тюрьма, кузница… дом. Место, где его ломали и собирали заново, вживляя в кости осколки чужой тверди, вливая в глотку зелья, от которых рвало чернотой и звенело в ушах неделями. Там он выжил, когда другое «сырье» умирало в конвульсиях. Там он стал Лютичем. Не человеком. Орудием. Лютым борцом с нечистью. Инструментом со сроком службы.
Воспоминание ударило, острое, как игла под ноготь.
Каменный зал. Холодный свет голубых кристаллов в потолке. Запах антисептика, крови и озона. Всепроникающая боль, выворачивающая кости. Он, молодой, с торчащими ребрами и глазами, полными животного ужаса, прикован к столу. Над ним – Мастер Ульф. Голос – скрип несмазанной телеги.
– Терпи. Боль сделает тебя сильнее. Ты станешь орудием.
Рука Ульфа с иглой, полной мутной, пульсирующей жидкости. Игла входит в позвонок. Мир взрывается белым огнем…
Дагаз вздрогнул, споткнулся о скользкий корень. Сиг тут же ткнулся холодным носом ему в бедро, тихо заворчав. Предупреждение. Дагаз провел рукой по лицу, смывая струи дождя и призрак боли. Ульф понимал. Цену каждой секунды в Кроне.
Велехольм встретил их стеной запахов: дым печных труб, сусло, свежий хлеб, конский навоз и легкий, почти забытый аромат луга и леса. После болотной вони это было спасением. Деревянные дома теснились за частоколом. Люди косились на Дагаза – высокого, широкоплечего, с лицом в шрамах и вечной тенью под глазами, с тяжелым мешком и огромным черным псом. На Сига смотрели с еще большим подозрением.
Таверна «Горшок лешего» была их первым пунктом. Отдых. Слухи. Работа. Внутри царил полумрак и было на удивление пустынно. Пахло кислым пивом, луком и влажной шерстью. Несколько местных угрюмо молчали в углу. Дагаз заказал тушеную свинину и миску каши с салом для пса. Единственная малая радость.
Тавернщик, коренастый тип со сломанным носом, хрипло хрюкнул.
– Собакам не подаем.
Дагаз медленно поднял на него взгляд. Глаза – узкие щели во льду.
– Собака здесь – ты. Я плачу, значит решаю, кто ест.
Руны на руках под кожей загорелись тусклым ядовито-зеленым светом.
– Хочешь поспорить?
Тавернщик побледнел, закивал, сглотнув.
– Так ты лютич. Так бы и сказал. – Он затравленно заморгал и метнулся на кухню. Сиг смотрел на Дагаза с безмолвным осуждением.
Еда была горячей и вкусной. После болотной похлебки – настоящий пир.
Их прервала тень, упавшая на стол. Это был посадник. Сухощавый, подтянутый мужчина в добротном, хоть и поношенном кафтане с городским гербом. Лицо бледное и напряженное.
– Лютич из Крона? – Голос тихий, твердый, не терпящий возражений.
Дагаз медленно поднял на него взгляд, прожевывая кусок мяса. Кивнул.
Рука посадника легла на стол. Пальцы разжались. На столе лежала монета. Темная, не серебро и не золото. Знак Крона. Приказ. Отказаться было нельзя.
– Пойдем со мной. Дело есть.
Его крепость была не дворцом, а суровым форпостом. Невысокая башня из темного, потрескавшегося камня, вросшая в склон холма. Узкие бойницы вместо окон. Частокол из заточенных кольев. Внутри пахло влажным камнем, плесенью и дымом очага. Аскетично: грубые скамьи, дубовый стол, пожелтевшие карты на стенах.
– Беда, – посадник обернулся. Лицо его было серым от усталости. – Не зверь. Не медведь. Нечто. Режет скот. Задрало двух пастухов на дальнем выгоне. Следы… странные. То звериные, то почти человечьи. След босой ноги, но с когтями.
Дагаз молчал. Костяные пластины под шрамами на предплечьях отозвались глухим, низким гулом. Предупреждение.
– Плачу сто серебряников. Кров, еду. Убей тварь.
Дагаз кивнул. Без эмоций. Сто – мало. Но приказ есть приказ. Монета Крона жгла карман.
Охота началась на рассвете. Дальний выгон представлял собой жуткое зрелище. Земля была вспорота не копытами, а чем-то острым и яростным. Туши овец не просто лежали – они были препарированы с холодной, почти хирургической точностью. Ребра разломаны, внутренности аккуратно, почти бережно извлечены и развешаны на низких ветках дубов, образуя промокшие на дожде гирлянды. Крови было пугающе мало.
Сиг, обычно нетерпеливый, шел осторожно, низко прижавшись к земле. Его нос вздрагивал, втягивая воздух, а глухое рычание не сходило с его глотки. Он не лаял, не рвался вперед. Он чувствовал не добычу, а угрозу иного порядка.
Следы сбивали с толку. Глубокие вмятины с отпечатками когтей, размером с медвежью лапу, но с неверным поставом. И между ними – отпечаток почти человеческой стопы, но удлиненной, с раздавленными, расплющенными пальцами, каждый из которых заканчивался глубокой вмятиной от когтя. И повсюду этот запах – едкой меди, озона и разложения.
Они шли чахлым леском, и Дагаз впервые за долгое время почувствовал себя не охотником, а дичью. Он не видел ничего. Не слышал ничего, кроме шелеста дождя. Но он чувствовал на себе взгляд. Пристальный, изучающий, лишенный всякой звериной эмоции. Холодный и аналитический. Он оборачивался так резко, что кости хрустели – позади колыхались лишь ветки. Слышалось тяжелое, влажное дыхание прямо за спиной – но вокруг была лишь пустота. Сиг метался, ощетинившись, огрызаясь на пустоту.
Это была изощренная пытка. Игра с наглой, презрительной уверенностью.
Хруст ветки. Сзади.
Дагаз резко обернулся с арбалетом наготове. Ничего. Только качающиеся ветки.
Шорох справа. Быстрый, резкий. Бросок в ту сторону. Пустота.
Тяжелое, хриплое, влажное дыхание. Прямо за спиной. Оборот. «Мясник» в руке. Никого.
Тварь не нападала. Она демонстрировала свое превосходство, свою невидимость. Она изучала его. Проверяла его нервы, его реакцию. Дагаз стиснул зубы, чувствуя, как знакомое бешенство начинает закипать где-то глубоко, под слоем выученного холодного расчета. Он ненавидел это. Ненавидел чувствовать себя уязвимым. К вечеру второго дня они вернулись ни с чем. Дагаз злой, молчаливый. Кости ныли от напряжения. Сиг шел сзади, настороженно оглядываясь.
В таверне, у очага, Дагаз сушил промокшие вещи. Пиво в жбане горчило.
За соседним столом шептались местные.
– …и чего он тут кружит, твой лютич-то? – хрипел старик.
– Тварь эту ищет. Что овец режет.
– Тварь… – старик мрачно хмыкнул. – Может, и не тварь вовсе. Помнишь Герланда? Мельника?
– Ну?
– Его на прошлой неделе служители взяли. Те, в плащах. Со знаком белой руки.
В таверне наступила тишина. Дагаз не двигался, но каждый мускул его тела напрягся.
– В чем дело-то?
– Шептались, будто с перевёртышем у него связи были. Будто по ночам он не молол зерно, а принимал у себя людей-зверей.
Дагаз медленно поднял голову. Теперь всё сходилось. Странные следы. Эта игра. Металлический запах – побочный эффект алхимии. Белая Длань. Опыты над людьми. Этот «оборотень» был не чудовищем, а неудачным экспериментом. Беглым адептом.
Он резко встал, отбросив жбан. Сиг встал рядом мгновенно, ощетинившись. Теперь он знал. Охота начиналась по-настоящему.
Охота заняла три ночи. Оборотень был хитер. Чуял охотника. Чуял Сига. Нападал из засад, используя чащу и темноту. Но в последнюю встречу – на опушке. Зверь вышел неожиданно, из-под густых еловых лап. Настоящий медведь-исполин, но… неправильный. Шерсть клоками висела на боках, обнажая участки воспаленной, сочащейся розовой кожи. Глаза горели не звериным, а разумным, больным безумием. Обрывки человеческой речи смешивались с хриплым рычанием. Воздух наполнился падалью, медвежьей мочой и чем-то дико-человеческим, потом и страхом.