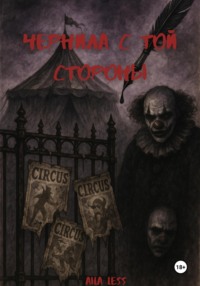Полная версия
Старики стояли чуть поодаль, переговаривались негромко и не отводили взгляда от пламени костра.
– Эх, молодые, – пробормотал дед Гаврила, втянув в себя дым и сплюнув в сторону. – Всё бы им прыгать, всё бы смеяться.
– Да ладно тебе, старый, – отмахнулся дядя Степан, усмехнувшись в седые усы. – Кто костёр перепрыгнет – тому счастья прибавится.
– А и то верно, – подтвердила баба Нюра, поправляя платок. – Пусть огонь дурь выжигает, не худо будет.
Гаврила хмыкнул, но всё равно не отвёл глаз от огня, будто ждал, не выскочит ли из него что-то ещё, помимо искр.
И вдруг из толпы донёсся громкий крик:
– Ну, пошли! Пора!
Гул сразу поднялся, загудело со всех сторон, смех и свист слились в один поток. Первой парой вырвались две девчонки – взялись за руки, разбежались и легко перемахнули через костёр. Пламя рванулось вверх, и над огнём заклубился густой дым, осыпая искрами темнеющее небо.
Я сильнее сжал ладонь Оли, чувствуя дрожь её пальцев в своей руке. Она не отстранилась, только крепче вцепилась в меня. Мы стояли у самой линии, так близко к костру, что жар обжигал лицо, а искры летели прямо в глаза.
Оля подалась вперёд и тихо, почти шепотом, но твёрдо сказала:
– Ну что, герой? На счёт три.
– На счёт три, – отозвался я.
Сбоку качнула головой баба Нюра, не сводя взгляда от костра:
– Подол придержи, девка.
– А то косы вспыхнут – кто ж такую замуж возьмёт! – подхватила соседка, и по кругу прокатился смешок.
– Раз! – выдохнул я, вглядываясь в раскалённые языки огня.
– Два! – откликнулась она, и мы шагнули враз, словно одно целое.
– Три! – крикнули сразу со всех сторон, и оглушительный хлопок ладоней толкнул нас.
Мы рванулись вперёд. Песок под ногами скрипнул, провалился и тут же оттолкнул нас вверх. Жар костра хлестнул по голеням, обжёг лицо, и в следующее мгновение мы оказались в воздухе. Под подошвами мелькнули искры, треснуло полено, и на долю секунды показалось, что огонь задел пятки. Мы опустились на землю, пробежали ещё несколько шагов и остановились – всё ещё держась за руки так крепко, что пальцы онемели.
Сзади поднялся общий гул: кто-то свистнул, кто-то крикнул:
– Ай да молодцы!
Мы стояли ещё мгновение, переводя дыхание. Оля первой отняла руку, всё так же улыбаясь, но уже спокойнее. Она шагнула чуть ближе, оглянулась на круг у костра и склонилась ко мне:
– Я к подружкам, – сказала она тише. – Ты потом меня не потеряй, ладно? Когда венки пускать будем.
– Не потеряю, – ответил я. – Я тебя сам найду.
Оля улыбнулась коротко, почти по-детски, и юркнула обратно в круг. Ленты её венка мелькнули в отблеске пламени и растворились среди других девчонок, чьи голоса уже подхватывали новую песню. Огонь шумел, дыхание толпы росло, парни снова брали разбег к костру, искры сыпались на песок.
– Ну что, герой, – сказала Ангелина, её лицо светилось в отблеске пламени. – Пойдём к еде. Всё равно один остался, чего тут киснуть.
Она ухватила меня за рукав и потянула к лавкам. Там уже тянулись запахи пирогов и печёной рыбы, смех перемежался с гулом песен, в кружках пенился квас. У длинной лавки на траве разложили угощение: пузатые пироги – с капустой, с яйцом и луком, с брусникой. На деревянной доске – вяленая рыба, плотная и пахучая. В мисках – картошка, только что вынутая из золы, ещё тёмная снаружи, но внутри горячая и белая. Рядом стояли огурцы, пучки зелёного лука, мёд в глиняном блюдце и ломти ржаного хлеба. Всё это пахло дымом, свежими травами и хлебной коркой, и живот предательски заурчал.
Ангелина ухватила горячую картошку, посолила крупной щепоткой и ловко разломила пополам – от золотистой кожуры пошёл густой белый пар. Она подула на половинку и протянула мне.
– Держи, пока горячая.
Я осторожно взял половину картошки, подул, но толку было мало – горячая кожура всё равно обжигала пальцы. Морщась, я всё же откусил и почувствовал, как во рту разошлась мягкая, рассыпчатая мякоть, пропитанная дымом и солью. Я поспешно сделал глоток кваса. Холодная, пенистая жидкость ударила в горло, сбивая жар, и я облегчённо выдохнул:
– У мамы всё равно вкуснее.
– Вечно ты ворчишь, – усмехнулась Ангелина, придерживая пирог обеими руками, чтобы начинка не вывалилась.
Я только пожал плечами, обжигаясь снова и снова, но не выпуская картошку, и тут рядом опустился Петрович. Он сел прямо на траву, шумно вздохнул, вытянул ноги и, немного поёрзав, устроился поудобнее. Из-за пазухи дядя достал ломоть ржаного хлеба, густо намазанный мёдом, откусил смачно и, жуя, покосился на миску с картошкой. Не раздумывая, ухватил один клубень, ловко разломил его пополам прямо пальцами, щедро посолил и сунул кусок в рот.
– Эх, – протянул он, жмурясь от горячего и кивая. – Вот это сила! Лучше, чем у вашей мамки на печи.
Ангелина возмущённо вздохнула, но улыбка всё равно прорвалась сквозь слова:
– Да ну! Мама всё равно вкуснее готовит.
– Может, и вкуснее, – согласился Петрович, откидываясь на локоть, – но тут вкус другой. Дымком пропахло, золой прихватило, а корочка на картошке хрустит так, что зубам радость. Такое дома не сделаешь.
Я только кивнул, жуя, и в этот момент к костру вынесли широкий медный таз, наполненный холодной речной водой. В нёмнём покачивались стебли мяты и василька, наполняя воздух лёгкой свежестью над водой. Девушки подхватили таз, опустили его прямо на песок, и вокруг сразу собрались ребята.
– Умываться надо, – сказала старшая из девушек, подбоченившись. – На красоту и чтоб дурной сон не лип. Ну, кто первый?
– Я! – вызвалась Ангелина и, зачерпнув ладонями, плеснула себе в лицо. Потом хитро сверкнула глазами и, не раздумывая, метнула горсть воды прямо в меня.
– Эй! – я вскрикнул, отшатнувшись, а мокрые капли побежали по шее. – Ты что творишь?
– На красоту! – хохотнула она и снова зачерпнула. – Будешь у нас красавцем!
Я уже шагнул, чтобы схватить сестру за руки, как рядом появилась Оля с подружками. Её венок чуть сполз набок, глаза блестели в свете костра. Она посмотрела на меня и, улыбнувшись, сказала мягко, но с задором:
– Пусти её, пусть играет. Праздник ведь.
С этими словами Оля зачерпнула ладонью воды, провела по лицу и отряхнула пальцы.
– Видишь, ничего страшного, – сказала она вполголоса, улыбнувшись.
Я выдохнул, и шум праздника будто отошёл в сторону. Сердце билось слишком громко, и я уже не понимал, от холода ли по лицу бежали мурашки или от её взгляда.
В этот момент над поляной потянулась новая песня. Люди начали сходиться к реке, костры оставались позади, их красные отблески гасли в темноте, а впереди всё ярче мерцала вода. У самой кромки реки уже горели свечи, тонкие и жёлтые, вставленные в середину венков. Девушки несли их обеими ладонями, держа осторожно, чтобы огонь не погас. Огоньки дрожали от ветра, отражались в воде и тянулись по течению, словно звёзды, спустившиеся с неба в реку вместе с травами и лентами.
– Пойдём? – Оля оказалась рядом. Венок в её руках светился мягким огнём, ленты едва колыхались. Она подняла глаза, и во взгляде было и волнение, и решимость.
Я кивнул и шагнул за ней. Песок у самой воды был прохладный, чуть влажный от самой реки. Мы наклонились вместе, и Оля осторожно опустила венок на гладь воды. Лента с её косы коснулась поверхности, свеча качнулась, на миг пригасла от ветра, но снова загорелась ровно.
Она задержала руки, словно проверяя, что венок держится.
– Видишь, – прошептала она, улыбаясь, – плывёт. Значит, всё будет хорошо.
Я смотрел, как её пальцы медленно разжимались, и не удержался:
– А если потонет?
Оля чуть пожала плечами, и в глазах её по-прежнему светилась тёплая уверенность.
– Значит, так и должно быть, – сказала она негромко. – Но ведь он не потонет… правда?
Она разжала ладони. Венок поплыл, качаясь в струе. Свеча горела ровно, и вода словно сама бережно подхватила его и понесла дальше. Вслед за нами к воде вышли и другие девушки. Катя прижимала венок так крепко, что пальцы у неё заметно дрожали. Лида шла иначе, словно ей было всё равно. Венки один за другим опускались на воду, сходились и расходились, сталкивались краями и снова уплывали в сторону, покачиваясь, словно маленькие лодочки.
Дети толпились ближе к кромке, тянулись к воде и шептались взволнованно, не скрывая восторга.
– Смотри, только не трогай!
– Ой, свечка погасла!
– Нет, снова загорелась, видишь!
– Вон у той прямо на корягу пошёл, – вздохнула Марфа и покачала головой. – Спорный год выйдет.
– Вон тот далеко ушёл, – сказал Гаврила, глядя на венок, унесённый течением к середине. – Гляди, как легла на воду. Только бы свечу ветром не задуло.
Мы стояли у кромки, когда венки разом потянуло к середине, и вода вспыхнула десятками крошечных огней. Они дрожали в ряби, отражались друг в друге и в тёмной глади, и всё это выглядело красиво – словно звёзды вдруг опустились на землю.
– Пойдём к огню? – спросила Оля, глядя на меня.
Я замялся и покачал головой.
– Ты иди. Я ещё немного посижу.
Она прищурилась, будто хотела возразить, но только улыбнулась и кивнула.
– Ладно. Только не задерживайся.
Оля развернулась и пошла обратно. Девчонки двинулись следом, переговариваясь вполголоса, и вскоре их силуэты растворились в пёстром шуме у костров. Там снова трещали сучья, песни тянулись звеньями – то вспыхивая громче, то уходя в гул.
Я остался у берега один, и вода колыхалась светом, словно в ней отражались не костры, а россыпь небесных огней. Венки плыли плотной грядой, прижимались друг к другу, качались на течении. Одни были свежие и тугие, с тяжёлыми стеблями трав, другие держались легче – за ними тянулись длинные ленты, распускаясь в воде. Свечи горели ровно, потрескивали и осыпали на поверхность капли воска.
Я шёл вдоль берега, чувствуя под ногами холодный влажный песок. Праздничный шум постепенно растворился позади, и впереди осталась тишина, в которой слышалось лишь ровное плескание воды да редкий треск фитиля в плывущих венках. Среди венков мой взгляд зацепился за один, не похожий на остальные. Он не держался вровень с ними, а медленно уходил в сторону. Листья на нём были уже не свежие, а потемневшие, с ломкой тяжестью прожитых дней. Лента потускнела, разлохматилась и тянулась за венком рваными коричневыми нитями. В центре чернело пустое пятно, там когда-то горела свеча, но её давно задуло.
Я остановился и, чувствуя, как по спине пробежал холодок, прошептал самому себе:
– Чей же он?
Венок проплыл совсем близко, скользнув мимо моих ног и оставив на песке зыбкую тень.
Вода тихо плеснула о берег, и в этот миг я услышал:
– Саша…
Я вздрогнул и резко повернул голову. На песке метнулась тень, девочка отпрыгнула к матери, и та увела её прочь. Выше, у костров, по-прежнему трещали факелы, раздавался смех, там жизнь шла обычным ходом.
И вдруг снова:
– Саша…
Голос не перекликнулся поверх плеска, а будто вышел из самой глубины – мягкий, почти неслышный, но от этого ещё более явственный. Звук коснулся затылка, кожу свело холодком.
Я сглотнул, выдохнул и, будто оправдываясь перед самим собой, прошептал:
– Показалось… Наверное.
За полосой венков река уходила в темноту. Там, где низкие ветви ивы тянулись к воде, всегда было глубже, и отражения костров ломались и расползались по поверхности длинными тёмными полосами. Я сначала смотрел рассеянно, не задерживаясь, но взгляд всё же цеплялся за ту часть берега, и вскоре я уже вглядывался туда всё внимательнее, сам не понимая, что именно хочу разглядеть.
Постепенно в этом месте проступил силуэт. На границе света и тени стояла женская фигура. Она не двигалась, и не шевелилась, сливаясь с рекой. Высокий тонкий силуэт, уходил в полумрак и холодно светился на фоне воды. Длинные мокрые волосы стекали по плечам тяжёлыми прядями, уходили вниз, теряясь в темноте. Лицо было скрыто, проступал только ровный, чёткий контур. В этом молчаливом образе сплетались красота и ледяная отчуждённость, от которой перехватывало дыхание.
Я моргнул, и видение исчезло. На воде осталась лишь рябь, которая тянулась к тёмным ветвям ивы. Я провёл ладонью по лицу, будто хотел стереть холод, оставшийся внутри, и тяжело выдохнул.
– Эй, – услышал я сбоку. Петрович спустился по склону, держась за колышек, чтобы не соскользнуть. – Ты чего тут застыл?
– Да так, – ответил я и сам удивился, как глухо прозвучал мой голос. – Смотрю, как плывут.
– Смотри меньше, – проворчал он, но в словах не было злости. – Пошли.
Он задержал взгляд на том старом венке, усмехнулся себе под нос:
– Откуда тебя принесло… – а вслух добавил ровнее: Чужое – пущай уходит вниз по реке
Мы пошли обратно к костру. Там снова гремели песни, трещали сучья, и жаркий воздух был густ от дыма и голосов. Я только успел ступить в круг света, как ко мне почти бегом выскочила Оля.
– Ты где пропал? – её голос прозвучал с упрёком, но глаза смягчала улыбка. – Я уж думала сама за тобой идти.
– Да так, дым в глаза набился, – ответил я. – Да ещё на песке скользко.
– Угу, – она чуть склонила голову. – А лицо у тебя как будто лешего увидел.
– Просто… устал, да и домой уже тянет.
Оля посмотрела сначала на меня, потом на реку и снова встретилась со мной взглядом.
– Проводишь? – спросила она почти шёпотом.
– Провожу, – кивнул я. – Только маму с сестрой отыщу.
Я пошёл к лавке. Мать сидела на скамье рядом с соседками, поправляла на коленях платок и тихо переговаривалась. Ангелина, разрумяненная и взъерошенная, вертелась неподалёку, спорила с ребятами и смеялась так, будто и не думала расходиться.
– Мам, – сказал я, наклоняясь ближе, – я Олю провожу до дома.
Мать кивнула, поправила платок на коленях и устало сказала:
– Иди уж, только не шляйся долго.
Ангелина тут же вскинула на меня глаза, прищурилась хитро и, будто нарочно громче, чтобы соседки услышали, протянула:
– Ну-ну, провожай, кавалер… Смотри, не заблудись там!
Я скосил на неё взгляд, хотел буркнуть что-то в ответ, но махнул рукой и пошёл обратно к Оле.
Она стояла чуть в стороне, на краю света костра. Увидев меня, шагнула ближе, и мы вместе двинулись прочь. Дорога тянулась мимо тёмных хат. Над крышами глухо скрипели колодезные журавли, в воздухе тянуло дымом, смешанным с прохладой мяты и прелой травы. Земля ещё держала остатки дневного тепла, но сверху её уже прихватила ночная прохлада, и шаги звучали мягко, приглушённо.
Оля вздохнула, коснулась виска пальцами и тихо сказала:
– Голова раскалывается, ноги гудят… не ведаю, как завтра вставать-то буду.
Я глянул на неё, усмехнулся уголком губ:
– А чего ж ты думала? То плясала, то с девками смеху задавала без продыху. Тут и самый крепкий завалится!
Оля усмехнулась, поправила волосы и сказала:
– Зато девок повидала. Лиза весь вечер всё про Ивана шептала, одно и то же талдычила. Мол, свадьбу скоро играть будут.
– Да ну, – сказал я. – А он, что ж, согласен?
Оля хмыкнула, поправила волосы и ответила с усмешкой:
– Да Ивану всё едино. Кто первая прижмёт к себе, за ту и пойдёт, без лишних дум.
Она замолчала на несколько шагов, смотрела под ноги, потом вздохнула:
– А я ж тоже замуж хочу… только вот.
Я глянул на неё, но она не договорила. Пришлось спросить самому:
– Только вот что?
– Да жениха нет, – ответила она тихо, – а если и найдётся, так мать не отпустит. Скажет, рано ещё.
Мы прошли мимо забора, где в тени пахло полынью, и она снова заговорила, чуть тише:
– А сестра твоя смелая. Её хоть в воду, хоть в огонь – всегда первая.
– Это да, – согласился я. – Только языком бы поменьше плела.
Оля прыснула, прикрыв рот ладонью.
– Да что ты, она ещё дитя совсем.
Я усмехнулся.
– Дитя-то дитя, а спору от неё – что от торговки на ярмарке.
Оля покачала головой, но улыбка всё равно скользнула по её лицу. Мы шагали молча ещё немного, только скрипели под ногами камешки да тянуло запахом прелой травы из-за плетня. У калитки Оля остановилась, положила ладонь на перекладину и на миг замерла. Она прикусила губу, будто собиралась с чем-то важным, потом медленно повернулась ко мне.
– Саша… – тихо сказала она, подняв глаза. – Я хотела тебе кое-что сказать…
Я наклонился ближе, боясь пропустить её слова, но в тот же миг дверь сеней распахнулась, и на крыльце показалась её мать. В темноте виднелся только строгий силуэт, а голос прозвучал твёрдо и ясно:
– Оля, домой. Хватит, нагулялась.
Оля вздрогнула, но почти сразу улыбнулась – виновато и вместе с тем по-доброму.
– Иду, мам, – отозвалась она.
Оля посмотрела ещё раз на меня, будто собиралась всё-таки договорить, но лишь коротко качнула головой.
– Спасибо, что проводил.
– Всегда, – тихо ответил я, стараясь удержать её взгляд хоть на секунду дольше.
Оля скрылась за калиткой, и щеколда мягко звякнула в тишине. Я остался снаружи, один, среди ночи. Воздух ещё хранил запах дыма, трав и растаявшего воска, откуда-то в стороне тянуло углями – догорал костёр. Я двинулся обратно по знакомой улице, думая о том, что видел у реки, и о том, чего так и не успела сказать Оля.
Глава 2. Следы на берегу
Рассвет подкрался незаметно. Туман висел над рекой тяжёлыми лоскутами, цеплялся за ветви ив и расползался по воде белыми полосами, в которых дрожал холодный блеск. В глубине ещё держалась ночь, но сверху уже проступал серый свет. Берег был влажный, песок цеплялся к сапогам и хлюпал под шагами.
Двое мужчин молча вышли к реке. На мелководье покачивалась лодка, привязанная верёвкой к колу. Старший шагнул в воду по колено, ухватил канат, уходящий в глубину, и потянул. Канат дрогнул, и сеть пошла вверх медленно и тяжело, словно сама река держала её и не хотела отпускать. Младший зашёл следом, ноги сразу увязли в мягком дне, но он удержался и подхватил край каната. Руки у обоих натянулись, плечи дрожали, петли поднимались одна за другой – мокрые, тёмные, с узлами, из которых сочилась вода.
– Тяжко идёт, – выдохнул младший. – Будто к самому дну приросла.
– Камни, что ли, наловила? – откликнулся старший, в его голосе прозвучала тревога, прорывающаяся сквозь привычную насмешку.
Когда сеть подняли выше, вместе с тяжестью воды брызнул холодный запах коры и сырости, будто само дно поднялось к поверхности. С узлов стекали мутные струи, в которых крутились белые хлопья чешуи. Между петлями показалась рыба – стухшая, с распухшими боками, с белёсой дряблой кожей и мёртвыми глазами. Хвосты расползались клочьями, плавники безвольно висели. Тела наваливались друг на друга тяжёлым комом, и наполняли воздух густым запахом гнили.
Младший отшатнулся, выпустил сеть и прикрыл нос ладонью.
– Матерь божья… – выдохнул он. – Да это ж мертвечина вся.
– Нечисто, – сказал старший негромко.
Молодой хотел усмехнуться, но улыбка застыла и медленно сошла с лица, когда сеть снова дёрнулась и в лодку вместе с водой свалилось что-то тёмное. Это оказался венок. Листья на нём почернели, расползались клочьями, края висели тяжёлыми мокрыми лоскутами. Лента обмякла, скользнула и тянулась по доскам длинным коричневым хвостом. От трав исходил кислый запах прели, будто вынули их из глубокой ямы. В середине чернело пустое гнездо, и по нему легко угадывалось, что когда-то там горела свеча.
– Что это… – прошептал младший, дотронулся до края и тут же отдёрнул руку. – Неужто кто-то вчера пустил?
– Вчерашние б так не стухли, – сказал старший, глухо. – Люди шепчут, русалка завелась.
Они поддели венок шестом и вытащили на берег. Он распластался на песке, словно мокрая тряпка, и из него медленно вытекала мутная вода. Младший нагнулся ниже и заметил на кромке цепочку следов. Они вели от реки к берегу, возвращались обратно и снова уходили к воде, будто кто-то бегал туда-сюда босиком по холодному песку. Пятки на отпечатках были узкие и лёгкие, а пальцы длинные и тонкие.
– Гляди, – сказал он негромко. – Вышла, вернулась… и опять вышла.
– Бабьи, – пробормотал старший. – После Купалы всякое шатается.
Туман редел, и стало видно, что чуть выше от кромки в траве валялась рыба: плотва, подлещик, два ерша. Они лежали кучками, словно одна волна вынесла их на берег и швырнула разом. Трава вокруг была примята, сплюснута и оставалась влажной. Старший вытер ладонь о тряпку и заметил, что к пальцам прилипла длинная темная волосинка. Вместе с ней тянулись два зелёных стебелька водорослей. Он машинально сжал находку в пальцах, потом стер о брючину, оставив мокрое пятно.
– И вправду русалка появилась, – сказал он негромко.
– Да какая там русалка, – отрезал младший, и махнул рукой.
– Всё равно не по-людски, – пробормотал старший, глядя на следы.
– Так, может, деревне скажем? – тихо спросил младший.
– Цыц, – нахмурился старший. – Ещё подумают, что мы сами тут чёрт-те что устроили.
Они задержались у кромки, прислушиваясь к тишине. Следы на песке начинали расплываться по краям, но всё ещё держали ясный рисунок, и от этого становилось не по себе.
Старший закинул сеть на плечо, глянул на небо, где тускло проступало солнце, и сказал:
– Пойдём. Работы и без чудес хватает. А язык свой держи за зубами, про рыбу скажем, а про остальное – ни слова.
Младший потоптался на месте, покосился к воде и пробормотал вполголоса:
– К полудню следов всё равно не останется… – и взгляд его зацепился за тёмный венок.
Я вышел во двор и сразу понял, что воздух был прозрачный, чуть прохладный, пахло мокрой землёй и смородиновым листом от куста у изгороди. Мать стояла на коленях в огороде, ладонью поднимала рыхлую землю, показывая Ангелине, где выдёргивать сорняк, а где оставить.
– Саш, принеси водицы, – сказала она негромко, не поднимая головы. – В ведре отстоялась с ночи, у крыльца стоит.
Я кивнул, но в этот миг из сарая донёсся голос Петровича. Он прозвучал глухо, будто из бочки, и тревожно, с той хрипотцой, которой он редко говорил:
– Сашка! Иди-ка сюда… и мать зови. Живо.
Мы с Ангелиной переглянулись. Мать поднялась не сразу, сперва стёрла землю с ладоней о передник, потом пошла к сараю, а мы за ней. Дверь отворилась с тяжёлым скрипом, и в лицо дохнуло сеном, парным молоком и ещё чем-то влажным, чужим. Петрович стоял, упершись рукой в косяк, и глядел вниз. На соломе лежал телёнок – Рябчик, тот самый, к которому Ангелина каждый вечер носила тёплое молоко. Шея была вытянута, глаза полуприкрыты, рот чуть разомкнут.
– Повалился, – сказал Петрович коротко. – Я ночью заглядывал – ещё на ногах стоял. А теперь… гляди, захлебнулся
Мать опустилась рядом с Рябчиком и долго молчала. Ладонью провела под горлом, заглянула в ноздри, отогнула губу, словно проверяя, нет ли следа болезни. Потом положила пальцы на грудь, задержалась, а после наклонилась ниже и приложила ухо к боку телёнка и долго сидела так, прислушиваясь. Наконец мать выпрямилась, осталась на корточках, руки сложила в переднике и только тогда заговорила:
– Горло чистое, – сказала мать негромко.
– А в лёгких хлюпало, – добавил Петрович хрипло. – Я перевернул его – слышал сам. Будто воды наглотался. Ты глянь солома то сухая. Откуда ж ему воды взять?
Мы все посмотрели вниз. Солома и впрямь была сухая, хрустела под ладонью, будто только что расстеленная. У самого порога доски тоже были чистые, только одна темнела узкой полосой, словно по ней провели мокрой ладонью. На сыром следе тонкой дорожкой прилип речной песок, а рядом поблёскивали мелкие чешуйки рыбы.
Петрович сплюнул, перекрестился и пробурчал:
– Чёртова нечисть, чтоб ей пусто. Не к добру это.
Мать тяжело вздохнула, глянула на дверь и сказала глухо:
– Крест на дверь поставить надо… чтобы беда не вернулась.
Она обернулась к сестре и мягче добавила:
– Не плачь, доча.
Ангелина прикусила губу, кулачки сжала так, что костяшки побелели.
– Я не плачу, – сказала она шепотом, но голос всё равно сорвался. – Жалко Рябчика… он ведь маленький ещё был…
Петрович отвёл взгляд, почесал шею, будто искал слова, и сказал негромко:
– Жалко, конечно… А что ж теперь? Ничего уж не поделаешь.
Мы вышли из сарая с тяжестью на сердце. Мать принесла из избы кусок мела, перекрестила дверь и на самой доске вывела белую метку – широкую, чтобы издали видно было. Потом подала мне охапку крапивы, я, морщась, разложил её вдоль порога, приглаживая ладонью, чтобы не осталось щелей. Мать вернулась с тонкой восковой свечой, зажгла её от лучины и встала у дверей сарая. Петрович снял фуражку, перекрестился коряво, не глядя на нас. Ангелина стояла рядом, всё теребила ленту в косе, пока мать не кивнула ей. Тогда и она перекрестилась, неловко, но старательно.
– Господи, упокой, – сказала мать глухо. – И дом наш не тронь.
Свеча сперва чаднула, выпустив тонкую струйку дыма, и лишь потом загорелась ровно.