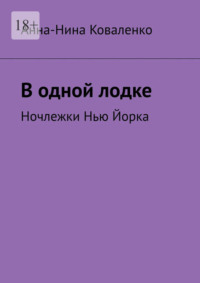Полная версия
Приземления
А вот и он, появляется из кухни в своём диком неглиже.
Ты выхватываешь из букета веточку веха и замахиваешься на него. Обернувшись чёрным гадом, трусливо и недовольно шипя, уползает он из комнаты.
– Ничего. Ещё встретится в жизни твоей настоящий Франческо.
Ты, вероятно, оговорилась, имея ввиду: «настоящий друг?» Но так ли это, не успеваю выяснить: теперь и ты исчезаешь, а прекрасный корабль НЛО за окном улетает, растворяется в небе. Нет цветов на столе… Настоящий, то есть реальный Франческо помогает подняться с пола, говорит:
– Приведи себя в порядок, я выведу тебя в аптеку.
Едва ступая разбитыми ногами, приближаюсь к зеркалу в ванной: лицо черно-синее, губы в ссадинах, за ухом – липкая горящая рана…
– Одень это! – он подаёт мне тёмные очки, и мы выходим из номера.
Иду, пошатываясь, и нужно ли говорить – вид мой страшен. Голова гудит.
Дежурный администратор сидит в холле, уткнувшись носом в чтиво.
Проходя мимо, незаметно для Франческо оставляю на барьерчике свой травелл-паспорт.
Перед входом в аптеку Франческо приказывает:
– Кашляй!
Задание лёгкое, я и так кашляю. Слышу, как он обращается к старенькому аптекарю:
– Кодеин.
Потом мы переходим в другую аптеку, и там я тоже кашляю, а он покупает кодеин – для себя.
По пути в гостиницу – лавочка, где под звук моего кашля он покупает (или крадёт) бутылку водки. Перехватив мой быстрый умоляющий жест в сторону кассирши, скручивает мне руки за спиной, и в таком виде мы возвращаемся в гостиницу… А на улице, по причине крепких морозов, в цементных цветочных посудинах расцвёл жемчужными брошками иней… Если останусь жива, напишу потом в дневнике: «нет цветения прекрасней цветущего инея…»
…Администратор сидит в прежней позе, мой травелл-документ уже лежит рядом с ключом от номера сто пятьдесят семь. Теперь я знаю: мимо него можно проносить расчленённые трупы.
…В номере – прохладно, беспокойно, тоскливо; горит свет, работает телевизор. Франческо заглатывает таблетки водкой. В позе бедной родственницы я сижу на краешке стула, украдкой смотрю в окно, думаю о красоте снежных, филигранных цветов; о том букете на столе…
Вспомнилось со стыдом, что дарила я тебе цветы два-три раза; покупая, думала больше о стоимости, чем о красоте.
Я даже не знаю, например, какие цветы – твои любимые…
Вдруг лёгкий ветер поднялся за окном, алмазно сверкнули на солнце, взлетев, снежинки.
Через времена, километры и ветер
Твой ласковый голос стихами ответил…
– Я вот поеду в Нью-Йорк и вые… твою дочку, – тем временем, прихлебывая свой кофе, ухмыляется Франческо.
Молчу. Оскорбление и угроза воспринимаются особенно зловеще оттого, что он – в чём я, как говорится, убедилась, – неспособен к обычному половому акту, ни с женщиной, ни с мужчиной.
Иногда ведь, наверное, хочется о чём-то поговорить, хотя бы и с жертвой.
***
…Увидела раз голубые тюльпаны —
диковинка, сказка, заморские страны!
Как неба глубины, ладьи голубые,
как вести из детства, где дива – любые.
Купить их, по правде сказать, не посмела,
но, кажется, знаю, чьих рук это дело.
Цветущие клумбы, высокие травы —
ах, сказочник грустный с улыбкой лукавой!
Наивный и мудрый – такой он один…
Поведал он нам, как живёт мандарин,
он мир подарил нам обыденно-странный,
где Герда и Кай, и солдат-деревянный;
где куклы, и крыса, лапландский олень,
каналы и розовый северный день;
звенят колокольчики в гуще ветвей,
а в клетке печальный сидит соловей.
Зачем же губить голубые тюльпаны?
Зачем заточать их в застоя стаканы?
Забуду; и вспомню вдруг облачным
днём…
Пусть вечно стоят они в сердце моём.
(Инна Баданова. «Голубые тюльпаны», Лондон -1988.)
***
Но вот он забывается коротким сном. Спит скрючившись на краю кровати, уткнувшись членом в оранжевое полотенце. Подбираюсь к двери, пробую открыть – не поддаётся.
Где ключи – не знаю, искать, тем более обыскивать его, не рискую. Можно было бы выйти на балкон. Выйти и крикнуть:
– Помогите!
Услышать в ответ скрип затворяемых окон?
Подхожу к телефону, снимаю трубку. Не знаю кода, и вообще не умею обращаться с местными телефонами. Но – что ты думаешь? – Божье Провидение помогает, голос дочери отвечает с другого конца света. Сообщаю адрес отеля, прошу выслать денег. Мысленная зарисовка: администратор, получив деньги, поднимается и звонит в дверь номера, а когда дверь открывается, я выскальзываю наружу и с деньгами в руках убегаю, бегу в сторону аэропорта, по длинному коридору, хоронясь за повсюду растущими спинами дежурных- администраторов…
Франческо вскакивает, проклинает мой кашель. Молниеносно кладу трубку на место, не успев больше ничего объяснить девочке и, вероятно, вызвав у неё хрестоматийные воспоминания об очаровательной мотовке Раневской из «Вишневого сада».
…Он принуждает меня открыть рот, брызгает в горло каким-то спреем.
– Что это?
– Кокаин, – шутит он.
Шутит ли? Бормочет:
– Выйдешь за меня замуж. Завтра… Нет, сегодня. Сегодня же будешь сеньорой Чезаре.
Молчу – вернее, кашляю. Для него заключение брака – излишняя предосторожность. Моим же останкам столь лестный титул «сеньоры Чезаре» не оставит никаких шансов на правосудие.
– …Где твой паспорт? Где паспорт?! – между тем злится сеньор Чезаре, роясь в моей сумке. Внимание его отвлекает телевизор. На экране репортаж из Румынии: людям, вслед за убийством сэра Чаушеску, раздают бананы – почему-то с Запада. Крупным планом – молодая женщина-румынка с ребёнком на руках, по-старушечьи повязаная платочком, с бледным и красивым лицом кинозвезды.
О чём она говорит, можно легко догадаться: до сих пор – имеется ввиду убийство Чаушеску и появление бананов с Запада – жизнь её была ужасна…
Слова ли, гармонический звук ли её низкого голоса, или кодеин от моего кашля подействовал на Франческо: глаза его наполнились слезами.
– …Я дурной человек, – всхлипывает он. – Я наркоман, вор и убийца. Я безнадёжен.
(«Безбожно убийцы начало…»)
Это было в Африке. Какой-то мальчик… А уже потом, в Турине… Нет- нет, во Флоренции… Он познакомился в кафе с девушкой, красивой девушкой Лаурой, пригласил её к себе в отель. Она хотела его – он это видел – а приняв за обыкновенного импотента, поступила неразумно, обидев его своим смехом…
– Ты не ревнуешь? – вдруг робко, даже заискивающе спрашивает меня Франческо. – Ведь я тогда был так одинок…
Как ни странно, я не ревную. Ну может быть, чуть-чуть. Ведь будь у них побольше времени – он мог бы посвятить ей превосходные стихи.
«Ма-а-ма» помогала замести мокрые следы: билет на самолёт, очередной первоклассный отель, новая просветительская миссия… Сыновья ещё не созрели для большого бизнеса.
– Загипнотизируй меня снова, – просит он, в попытке обнять извиваясь. – Я вздрагиваю. – Преврати меня опять в змея.
Я не умею гипнотизировать. Да этого, собственно, и не нужно.
***
…Продолжаю писать уже в помещении аэропорта.
Вчера утром (как выяснилось, на восьмой день описываемой встречи) он отправился побегать, одевшись для такого привилегированного занятия в отвратительно грязный наряд, отдалённо напоминающий спортивный. Прихватил с собою и велосипед, до того стоявший в углу номера.
За время их с велосипедом короткого отсутствия я собрала, как могла, свои вещи, подтащила сумку к двери, накинула плащ; и как только открылась дверь номера, впуская их – выскочила наружу и побежала (так мне, по крайней мере, казалось) по коридору, хоронясь за спиной случайно там оказавшегося китайца.
Спустившись к администратору, приклеенному к своей книжке за барьером, я, помню, сказала:
– Мне нужно с вами поговорить.
Рядом, за окошечком кассы, стояла и автоматически улыбалась молодая итальянская корова.
Притворившись, будто не понимают по-английски, мне стали совать в ответ то травелл-паспорт, то какие-то таблетки, называя их «медисин».
Подошло ещё одно – главное – действующее лицо отеля, его владелец, зеленоглазый, блестящий красавец, который вручил мне одну за другой три свои визитные карточки, что-то говоря по-итальянски, наверное приглашая ещё не раз побывать в их заведении.
Разумеется, по правилам хорошего тона мне следовало давно уйти, а по правилам простейшей динамики, хромая пешком в сторону Малпензы и делая четыре-пять километров в час, за два дня и две ночи как раз прибыть к отправлению самолёта Милан – Нью-Йорк.
Но мне так не хотелось расставаться с ними, что, в конце-концов, первые двое заговорили по-английски с приятным лондонским акцентом.
Зеленоглазый Эдуардо Брандолезе увёл меня в заднюю комнатку. Пользуясь переводом дежурного-читателя, я рассказала (вкратце, конечно – по существу) о том, что происходило и что могло ещё произойти со мной в этом их отеле.
По улыбкам в ответ догадалась: они бы не стали меня оплакивать, а скромно похоронили бы за счёт мадам Чезаре.
Вызвали-таки полицию.
Полицейские ехали долго.
Брандолезе всё это время источал улыбки – видимо, понимая, что они ему к лицу. (Да, сейчас при всем старании я не смогла бы сравниться с ним красотой…) Чтобы показать, что в моём лице могли бы они потерять – как-никак, не муху ведь чуть было не прихлопнули, а человека! – Художника! – открыла портфолио с фотографиями своих работ. Услышала вежливое, избитое:
– Very nice. (Очень мило.)
Приехали полицейские. Молодые, с лицами пухлыми, равнодушными, к тому же так похожие один на другого, что не помню, было ли их двое, трое или четверо.
– Вы уверены, что он -Чезаре – в номере? Там вон его ключ.
И уехали. Подниматься наверх не стали.
Помочь мне добраться до американского консульства, то есть транспортировать в город отказались: мол, это им дорого будет, ведь они не миланская полиция…
Упросила позвонить в консульство: там все ушли, было уже три часа пополудни. Разговаривала с дежурным офицером по имени Дэвид. Дэвид посоветовал в моей ситуации (имея ввиду отсутствие денег) остаться в отеле, снять номер и ждать помощи из Нью-Йорка. Разоблачил ложь полицейских, сообщив, что на самом деле отель располагает автобусом, который отвозит в Милан бесплатно.
Заказали разговор «коллект» с Нью-Йорком, передали моей дочке просьбу выслать денег, продиктовав адрес Миланского Центрального Почтамта, не их отеля почему-то. Дали трубку мне. Я говорила по-русски, но два слова: «садист», «онанист» были интернациональными, и кассирша отозвалась на них беззвучным смехом, показав четырежды восемь-с-половиной здоровенных зубов. Мы, можно сказать, становились подружками, а также у меня был повод подумать, глядя на неё:
«Иногда это счастье – быть толстой».
Прибежал администратор, сунул мне в руки журнал мод.
Промелькнули со страниц жёлтые, красные, чёрные, куцые наряды напрокат; затравленные взгляды манекенщиц… Через стекло, не до конца задёрнутое занавеской, вдруг увидела выходящего с вещами из отеля Франческо Чезаре.
Пошла к администратору и сказала:
– А я видела.
Он же сделал вид, что не понял, и предложил почитать итальянскую газету. Я повторила:
– А я видела, как мистер Чезаре выходил из отеля.
Он ответил:
– Да-да, он вышел.
Теперь их милость быстро менялась на гнев, и я просто не представляю, что было бы со мной дальше, если бы ещё раз не Божье Провидение: в заднем кармане джинс чудом сохранилась неотнятой скомканная пятидесятитысячелировая бумажка, которая решила судьбу предстоящей ночи.
Видела бы ты, как просияли ответственные лица при появлении свёрнутой ввосьмеро, почти истлевшей купюры! Что-то подобное можно было уловить в лице может быть только одной Рафаэлевской Мадонны, коленопреклонённой перед голеньким пухленьким младенцем, бессмысленно вцепившимся в подол её драпировки.
Выслушав длинную торжественную речь о том, какое мне оказано одолжение – девяностатысячелировый номер на восьмом этаже за полцены – отправилась туда спать. Этот номер был так же хорош, как и сто пятьдесят седьмой, но я не ощущала радости, как прежде. Закрыв за собою дверь изнутри, поняла что устала, и что вследствие побоев и таблеток «сахарина» не могу ни на чём сосредоточиться. Я очень испугалась, что такой и останусь: ведь почти всё можно преодолеть, если только не потерять рассудка… Сделала первый миланский набросок – вид из окна.
Вечером, по телефону вызвали вниз: какой-то щедрый чиновник из консульства (а может быть, сам консул) прислал два билета на метро. По возвращению в номер, буфетчик, окликнув, угостил тостом и чаем. Запомнилось его худое лицо; тёмные, грустные, всё понимающие глаза.
И вот, утром я приехала в Милан, в консульство. Пройдя, как и все, строгий досмотр на наличие, вернее, отсутствие бомбы в портфолио, приблизилась к стеклянному барьеру, откуда на меня смотрел улыбающийся голубоглазый чиновник-джентльмен. Он узнал меня по многочисленным автографам, оставленным на моём лице Франческо.
– Вы были изнасилованы? – спросил он с непонятным мне сладострастием, и глаза его, в ожидании ответа, превращались из голубых в жёлтые. Люди в очереди нетерпеливо подталкивали сзади. Я сухо попросила его выдать мне соответствующий бланк.
В конце концов, это ещё не суд.
Глядя мимо, официально разочарованно, он так же сухо поблагодарил меня за «внимание к преступным особам» и выразил сожаление по поводу того, что «консулат» (консульство) мне ничем помочь не может, так как я пока ещё не американская гражданка (а гражданства в США эмигранты ждут пять лет). Тем не менее я могла бы оставить свой «рипорт», то есть рапорт, в интернациональной, вернее, иностранной полиции.
Дал адрес, как оказалось, ложный.
Но я всё-таки нашла эту полицию: огромное одноэтажное, больше похожее на гараж, здание; а перед ним очередь за бланками для «рипортов»: многотысячная, и я не преувеличиваю, толпа – очевидно ничьих граждан.
Когда очередь приближается ко входу в полицию-гараж, её встречает группа бандитов, одетых в полицейские и в военные униформы; отгоняют людей назад, – так отгоняют скотину, – пускают в ход дубинки, при этом не говоря ни слова по-английски, и вообще ни на каком другом языке, кроме своего. Я поняла, что это глупая, бессмысленная затея: искать мистический конец очереди за мистическими бланками, в то время как нужно ещё где-то на Центральном Почтамте получить деньги из Нью-Йорка, – в консульстве дать взаймы отказались, не дали ни цента, и всё потому, что я не их гражданка. Плюнув (мысленно), отправилась пешком (дарованные два билета на метро кончились) искать почтамт… Молодая цыганка с грудным ребёнком на руках схватила за полу плаща. Вскрикнув я отшатнулась, пошла быстрее. Слышала её догоняющие шаги, страстный шёпот:
– Синьора… Манджаре…* (*поесть)…
Шла, отмечала глазами повсюду красоту готических архитектурных форм. Думалось: «памятники старины». Поднимая голову вверх, на скульптуры, видела каменные половые органы. Подсознанием робко нарисовала деревянный, православный крест на человеческой могиле; перекрестилась…
Нет выше памятника старины.
***
…Минувшей ночью, в номере за пятидесятитысячелировую бумажку, снилась старая, разваливающаяся церковь. Я шла, вернее, лезла по сгнившим деревянным лестничным ступенькам вверх, следуя за двумя священнослужителями в чёрном. На мне было длинное цветастое платье (оно на мне, я переоделась), на плечах – красная русская шаль (она в Нью-Йорке).
При восхождении наверх – под самый купол – священники прошли, легко поднялись по деревянной лестнице. Я же, едва ступив, развалила её, упала. Лежала на площадке между небом и землёй, лишенная возможности спуститься вниз или идти дальше, вверх, за моими поводырями в чёрном…
– Дорогая моя Бурный Поток* (*перевод имени «Инна»), женщина- чайка, затем – сошиал секьюрити номер такой-то.
Зачем, с какими призрачными надеждами, эмигрируя тогда из России, мы разлетелись в разные стороны?
…Во время прощального чаепития, вдруг, за окном, рухнула под корень старая берёза.
Стояла тихая весенняя погода.
ВТОРОЕ, ИЛИ ТУРИНСКОЕ ПИСЬМО
Я в ночном ресторане,
где циничных, насмешливых глаз
Тысячекратный салют,
да посуды гортанные звуки.
Холодок по спине:
неужели со мною начнется сей Час?…
Помоги. Огради меня, Боже,
от зоо —
логической муки…
В алкогольном угаре на память зову
дом-музей христианской любви,
Треугольник лица, взор коричнево-серый,
Монотонный показ акварельных рисунков,
темно-красное: «Спас на крови»…
Нательного крестика ржавая цепь —
как у всех староверов…
На крови не спасают. Её привидению
лучше уйти,
Призываю Единого Бога дать язычнику
акры пустынь*.
Там песок, завывание ветра, сухая трава
шелестит.
Доброй смерти, безгрешные корни.
In the name of the Father**…и сына…
et Spiritus Santa… Аминь.
(Октябрь 1989, Турин)
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —
* где нет ни времени, ни места для размышлений (автор)
**во имя Отца (англ.)
ПИСЬМО ИЗ ФЛОРЕНЦИИ
С тех пор как я помню себя,Всё лучшее было сегодня.Разбудил воробьиной семьи разговор за окном.Автомобили, скрипя, тормозили…Откидной календарь подмигнулисторически скромною датой…Пришёл очистительный, обворожительный снег.Я побрёл по нему тридцатилетним,слегка сумасшедшим поэтом,Бормоча все известные русские фразы:«Достоевский… Раскольников… Пушкин…Чехов… Цветаева… Нина… Москва…»Моё сердце бешено билось,Дорогая, amore mia,Я хотел тебя видеть рядом…Я пишу из города Данте.С тех пор как я помню себя,Всё лучшее было сегодня(Ноябрь 1989, Флоренция)ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ОТ ФРАНЧЕСКО
…Баланс… Невозможное, странное слово,
Ранним утром рисуя
голубую завесу железного неба,
Замечаешь на всём:
как веснушки, пустоты,
рваные дыры…
Монотонность их глазу болезненней
чем ослепленье.
Тебе
обитающей в каменном чреве
Нью-Йорка,
Сумрак улиц, зловонье предстают синтетической шкурой,
Жуткой мантией, прячущей
скверные тайны;
Лоскуты облаков перекрестят: изыдите, тени.
Этот вакуум чёрного, белого и
Голубого
Гробовою доской над прекрасными
трупами
жизни.
Полицейские правы в своем избежании
депрессий:
Ночь на службе у них,
и надежна ее чернота постоянства.
(Декабрь 1989, Милан)
***
Ночь. Посреди холодного, пустого миланского аэропорта Малпенза, мешая своим присутствием спокойной работе уборщиков, сидит худая, косматая женщина с темносиним лицом в красный горошек и – пишет, пишет, пишет… Если бы не эта отдача писанию, её можно было бы вполне принять за опустившуюся проститутку и выгнать вон… Подходит вооружённый (не знаниями) тип, просит предъявить документы. По предъявлению же просиял: «Русса? Русса!» И, салютнув, отходит.
В травелл-документе, правда, написано «украинка», но он-то отлично разбирается в международных связях…
***
«I love Nina, she shines like a thousand lights in the darkest of worlds»
(Я люблю Нину, подобно тысяче светил, она освещает темнейший из миров)
Надпись, – точнее впись, оказавшаяся на стр.110 одного из уцелевших экземпляров «Черновика».
– Когда это он успел?
***
Протянут над улицей
лазерный луч,
он прям, но сутулится,
зелен и жгуч.
Деревья давно
растеряли листву,
зелёный подарок
тот луч к Рождеству.
Он там, над домами,
– над жизнью парит,
внизу огоньками
пестрит Оксфорд-стрит.
Стихиям всем отдан
и вечно один,
на что ему мода
и буйство витрин?
Он к людям стремится
с надкрышечных круч,
он рвётся и злится,
зелён и колюч.
(Инна Баданова, «Луч». Лондон – 1988)
***
Малпенза, утро 17 января 1990 г.
Дорогая Инна Моисеевна.
Остаток ночи прошёл в общении с людьми.
…Ещё вчера вечером, спустившись откуда-то сверху, присел и затих в дальнем левом от меня углу вокзала юный хиппи из Калифорнии, Роберто.
…Вошла и спросила о чём-то – по-итальянски сначала – девушка Марни из Мичигана, со своей старой собакой, верной спутницей в путешествии, совершённом по Европе…
Всем нам трём (не считая собаки) предстояло лететь в (и через) Нью-Йорк разными рейсами.
РАССКАЗ МАРНИ
Зовут меня Марни,
Я камень, я остров,
Я девушка Марни,
Я каменный остров
Из штата Мичиган.
Отца я не знала:
О матери помню:
Однажды застряли
Две красные вишни
В зелёной пряди волос…
Я долго копила
Какие-то деньги:
Хотелось учиться.
Теперь мне за тридцать.
Послушайте, леди,
Вы, значит, художник?
(Могу я газету
Собаке подстелить?)
…Неверный бой-френд
Покидая, подкинул
Щенка в утешенье —
Все были довольны,
Включая Гориллу —
Разлучницу с котом.
И вот мы с собакой
Смертельно устали
Гостить у Европы
Бродить по Европе:
Подобно кроссвордам
Решать комплименты;
Просить снисхожденья
– У них, за свои же —
За потом и кровью
Добытые баксы…* (*доллары – сленг)
Казна опустела,
Кредитная карта.
Назад, к нашим швабрам,
Я тоже художник:
Я ас-сенизатор,
Русалка, и ведьма,
Я камень, я остров,
Я девушка Марни
Из штата Мичиган.
– А знаете, – сказал Роберто, – меня тут приняли за террориста. Полицейские. Я нечаянно заснул на втором этаже, на полу. Служащие разбежались, а полицейские окружили кольцом и наставили автоматы. Пока не проснулся, стояли и целились. И всё потому, что у меня рюкзак в цветочек.
(Рюкзак у него, и вправду, был в цветочек).
– Рюкзак в цветочек… Это, наверное, униформа террористов… – предположила Марни.
– О, если бы все террористы носили униформы, – вырвалось у меня.
…Закончили свою работу и подсели к нам до первого утреннего автобуса в город два уборщика: один – итальянец, другой – араб. Итальянец мечтал вслух жениться на какой-нибудь русской девушке – они красивые – и обзавестись пятнадцатью (а лучше шестнадцатью) детишками. Молчаливый араб угощал всех, деля на дольки, вкусными апельсинами. Нас было пятеро, не считая собаки, а апельсина – два.
Хорошо с обыкновенными людьми.
Проводив их, мы с Марни устроились поспать: я на стульях; она, не забыв почистить зубы перед сном, на полу, рядом с собакой. Свою единственную подушку она уступила мне.
…Появились и вскоре улетели первым рейсом мальчишки-студенты, рассказав на прощанье историю о том, как они проучили неких спесивых французов за «американцев-дураков».
…Улетела и нежная красивая девочка Ребекка, прижимая к груди мой набросок. «Это я? Это точно я, а не мальчик?» – переспрашивала она, не найдя на рисунке своего хвостика. А родители тянули и дергали её за руку…
…У Марни начинаются хлопоты с отправлением собаки, умирающей от усталости. Меня зовут к кассе номер десять, чтобы вручить пакет для Нью-Йоркских работников «Now Voyager» – я ведь лечу курьером…
…Златокудрый Роберто идёт на посадку. Его рейс на два часа раньше моего. Уже совсем было уходя, он вдруг резко поворачивается назад, подбегает ко мне, быстро, прижав к груди, целует на глазах у удивленной публики, столпившейся вокруг кассы номер десять…
Ему, им; тебе я, готовая разрыдаться, подобная горьковской Матери, посылаю вослед мысленное, сокровенное, обжигающее:
– Родные…
***
Сейчас они все уже разлетелись, а я сижу…
Взлетаю…
Лечу…
Нет цветения прекрасней цветущего инея.
Январь 1990
II
ЛЕТО И ЛЕС
…Восстановите тот тяжёлый жемчуг,
Что растворён царицею Египта,
И будь на вас касторовые шляпы,
Я вам скажу: вы можете любить!..
(Дж. Китс, «Современная любовь»)
Январь 2002.
Знаете ли вы… То есть, вы, конечно, знаете, что такое «коммивояжер». Я теперь тоже знаю. Впервые, помню, повстречала это слово в книге-сборнике драм Теннеси Уильямса: вот героиня «Лета и Дыма» по имени Альма, после многократных и многолетних неудавшихся попыток заслужить любовь друга детства, Джона, за любовь к нему, Джону, – в конце концов, то есть в конце драмы, принимает из рук незнакомого заезжего коммивояжера таблетку от головной боли, так мучившей её (а и ещё бы!) и уходит за ним, за заезжим коммивояжером, в его отель…
В «Русском Словаре» издательства «Berkley Books» нашла такое толкование «коммивояжеру»: