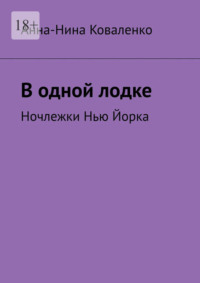Полная версия
Приземления

Приземления
Анна-Нина Коваленко
© Анна-Нина Коваленко, 2025
ISBN 978-5-0067-9183-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Анна-Нина КОВАЛЕНКО
ПРИЗЕМЛЕНИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
(«Умный пёсик»)
– …Всю ночь шёл дождь… О, о, о, о…
Бабушка отошла от окна.
– Но…* (*да- челд.) – подтвердила её кума-соседка, сидящая на лавке и как раз у окна. – Такой был дождишша – ево бы весной…
– …Вот маленько подсохнет, тогда и пойдёшь.
Это бабушка – ко мне, на мою просьбу отпустить погулять.
– Но… – Подтведила кума-соседка. – А тебе сколько лет? Три? Дык, а ты знашь како стихотворенье?
Я взбираюсь на табуретку. На макушке у меня бантик, обхвативший пучок коротеньких волос, – похожe на перья лука, растущие из луковицы-головы. (Это я знаю по фотографиям тех лет.) Начинаю декламировать, громко, с выражением:
– Ну- ка, песик, чёрный носик, станем, брат, учиться!
Сядь прямее, будь умнее! На бок не валиться!
– Что ты, Петя? Hет охоты: я ещё щеночек.
Нагуляться, наваляться мне позволь, дружочек!
(На этом мои познания в поэзии кончаются. Что извинительно для возраста «три». )
– Ишь чо… «дружочек», – передразнивает появившаяся на пороге из горницы бабушкина младшая дочка, румяная девчонка-подросток, мне тётя. Она меня ревнует к бабушке и не любит. Её нелюбовь меня мало заботит, мне просто нравятся эти строки; нравится представлять себя пёсиком – таким толстеньким, черноносеньким, лопоухим… Я ещё не знаю, что у этих строк есть продолжение – предостережение мудрого Пети:
– Ай, мордашка, ты дурашка, много понимаешь:
Чем позднее, тем дурнее, после сам узнаешь.
Желанная пора счастливого неведения!
I
НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
Тьма, притомившись, прилегла.
Я захлебнулась, я устала.
В подземном царстве тихо стало.
Явилась, сбросив покрывало,
Заря – свободна и светла.
(И. Баданова)
Нью-Йорк, 15 июля 1989 г.
Самолёт на Рим улетал по расписанию в 8:10 вечера. Я приехала на аэровокзал в начале девятого. Франческо нигде не было. Чёрная-пречёрная работница ворот номер двадцать девять тупо твердила:
«Туда (то-есть дальше) нельзя не-пассажирам…»
Помаячив в прихожей кампании TWA, я собралась уходить, как вдруг увидала его входящим. Оказывается, время отлёта поменяли на 10:00, он это узнал, позвонил мне предупредить, но я уже вышла из дома…
На прощанье в буфете пили горькое пиво. Вокруг звучала итальянская речь – будто всё здание TWA тронулось в сторону Рима.
Неумело закурив, а потом так и забыв сигарету в пепельнице, он говорит мне:
– Скажи только – и я останусь.
В ответ, представив, как трудно, как хлопотно было бы ему вернуть уже сданный багаж; какие эпитеты могут прислать мне из Италии его родители; а также не смея признаться в своём крайне бедственном материальном положении; подумав, рисую карточную реку, две тощие фигурки на берегу: он и я. Обозначив течение стрелкой, приказываю одной из фигурок:
– Франческо, плыви по течению.
В руках у меня подаренная им на память дорогая авторучка «Феррари». Когда он идёт к трапу своего самолёта, я прижимаю к груди авторучку и говорю вслед срывающимся голосом одно слово:
– Франческо…
* * *
Нью-Йорк, 21 июля 1989 г. Франческо улетел пятнадцатого. Ждала его телефонного звонка целых пять дней.
Двадцатого, то есть вчера, написала письмо на адрес Туринской галереи его матери. Пока шла с письмом к почтовому ящику, опускать передумала. Вернулась домой, в подробностях вспомнила написанное – ничего страшного. Вышла снова из дома, опустила. Что сделано, то сделано. Заснула спокойно, зная, что он где-то есть и всё понимает. И он не скажет ничего вроде: «Ты что, видно, пьяная писала?», – как отреагировал однажды на шутливое новогоднее поздравление один неумывающийся американец Тим. Франческо никогда не позволит такого – вот что важно в нём.
…Разбудил звонок телефона: Италия вызывала «коллект»* (*звонок за счёт ресипиента, т.е. получателя). Хрипловатый далёкой голос говорил простые и редкие слова:
«Скучаю по тебе».
«Хочу тебя видеть рядом всю мою жизнь».
***
Нью-Йорк, 11 августа 1989 г. В день своего рождения пришла в парк- принесла себя в подарок цветам. Бело-сиреневой шеренгой цветут вдоль забора лилии.
Сбегала за камерой, сфотографировала. Снимок отошлю ему; на обратной стороне напишу:
«Здесь проходил Франческо».
***
Нью-Йорк, август 1989. Далёкий звук пролетающего где-то самолёта отдаётся в душе болью расставания… На нём была темнокрасная рубашка с короткими рукавами; и я могла быть счастливой – сказать бы тогда: «Останься». Ведь кто-то, когда-то, должен же быть счастливым!
* * *
(Когда-то, давно… С… С… Но о том лучше не вспоминать. Забыть. Забыла. Почти забыла.)
***
Нью-Йорк, 2 сентября 1989 г. Сегодня Большой Праздник – утром, в 10:30, позвонил Франческо.
По Гамлету.
В детстве, заслышав отдалённый гул в небе самолета, я вместе с другими ребятишками задирала вверх сопливый нос и в хоре кричала вслед пролетающему чёрному силуэтику:
– Эроплан, эроплан,
Посади меня в карман,
А в кармане пусто,
Вырастет капуста,
А в капусте червячок,
Вот с такой вот кулачок!
При последних словах выкидывался вверх кулачок, усеянный цыпками. «Эроплан» же, терпеливо снося словесные нападки, следовал мимо…
Прошло много лет; редко вспоминаю я эту дразнилку. Когда же, повинуясь рефлексу слабослышащих, поднимаю глаза – и даже не поднимая глаз – на отдалённое ворчание самолёта в небе, то узнаю высоко в зените угрюмые тёмные очи, обращённые к роковой Планете.
Я вижу всё… В весеннем лесу, по хоженой тропинке гуляет пахнущая одеколоном человеческая особь – скальп убитого животного висит на шее украшением. Тонкая рука бездумно тянется к ветке, растущей неосмотрительно низко, и – срывает её.
– Мама! – вскрикивает та, надломленная, и роняет на землю потемневшие листья.
…И даже ваши святые традиции – не более чем живописные краски на кусках расчленённого дерева.
«Я вижу всё.
Безумные, бедные люди»
ПЕРВОЕ ПИСЬМО ОТ ФРАНЧЕСКО
Я помню тот вечер, когда даже звёзды
постылыми были.
Взгляд был вверх, дрожа, кровоточа
холодом цвета,
Полушарий, Галактик увидел я много
разинувших пасти смеха
Над про-пастью людей.
Полярной Звезды трепетание было
пронзительно-бело.
Малые звёзды Большой Белизны подражали примеру.
Предвещала недоброе утро
Лихорадка падений подобий
Белой Полярной Звезды…
Как вдруг я видел её
одинокой звездой между прочих,
Облачённою в голубоватый,
нежнобарвинковый светоцвет.
В молчанье её, в немом выраженье
отчаянья
Я угадывал то, что мне было дороже всего.
Да! Любил. Я любил этой женщины-звёздочки облик.
Как скупы её жесты и телодвиженья;
В них есть скрытая сила крестных знамений,
Что хранят и спасают —
на случай паденья – людей.
(12 августа 1989, Италия, Рим, вечер)
***
5 января 1990 г. Милан, отель «Сантомасо».
Утро вечера нисколько не мудренее. Это нужно, чтобы человек был мудрым. Тогда он утром, отдохнувши, становится ещё мудрей и принимает самые правильные решения. А немудрые – и к их числу отношусь я – все надежды возлагают на утро как на лучшего суфлёра.
В то время как утро – это всего лишь часть суток, приходящая откуда-то с Востока и уходящая куда-то на Запад.
6 января 1990 г. Милан, отель «Сантомасо».
Делать из страниц дневника стельки, чтобы спастись от холода;
Кашлять басом;
Пересчитывать монетки, боясь истратиться на чашечку кофе;
Потихоньку сморкаться в варежку (на улице) и быть в предчувствии великого счастья
– суть вещи совместные.
***
7 января 1990 г. Милан, отель «Сантомасо».
Была в Соборе – чёрный парень из Сенегала показал дорогу за тысячу лир. Этот торговец блестящими безделушками оказался единственным на Piazza Della Republika, говорящим по-английски.
На нотах, приготовленных для оркестра, написала:
«Святая Мария, сохрани жизнь и свободу всем невинно осуждённым на смерть».
Это моё партизанское, заветное пожелание. Nunc et in hora mortis nostrae* (*Ныне и в час смерти нашей – лат.)
Amen.
Аминь.
Но, кажется, освободился коммунальный телефон.
Утро 8 января 1990 г.
Улицы Милана, особенно те, что близко от железнодорожного вокзала, кишат сексуальными маньяками.
Чтобы жизнь ваша была в опасности, не нужно ни декольте, ни белокурости, достаточно просто быть женщиной и идти по улице.
ПОДРУГЕ, УМЕРШЕЙ В ИЗГНАНИИ
Дорогая моя Инна Моисеевна,
Инна.
Я пишу письмо в Милане, но отправить его тебе в Лондон смогу лишь из Нью-Йорка.
Да так будет и короче к получателю, учитывая трудовой энтузиазм итальянской почтовой службы.
Через полтора часа подойдёт автобус, который заберёт меня, в числе других пассажиров, в аэропорт. Там буду сидеть всю ночь и продолжать писать т-тебе.
Всё дело в том, что я ужасно, бесконечно и безнадёжно провинциальная женщина, поэтому благоговею перед интеллигентными людьми, перед образованностью, перед эрудицией.
И поэтому же мне так трудно было до сих пор перейти с тобою на «ты».
Вот, решилась. Но ты меня прости. В наших русских деревнях иногда даже мам зовут на «вы». А я тебя чувствую очень родной, но только городской.
Давно о тебе ничего не слышно. А без контакта с тобой сейчас не выжить.
Ужасно холодит зад. Сижу на цементной (о, пардон! – На мраморной!) ступеньке, и толстый слой глупой итальянской прессы за тысячу лир не спасает от простуды. Могла бы истратить оставшиеся деньги на отель – не хочу, там противно.
Буду лучше писать тебе, и таким образом согреваться.
Итак, в Милан меня пригласил один молодой человек, с которым до этого мы виделись пять раз в Нью-Йорке. Его мать (если она действительно ему мать) – владелица галереи в Турине. Она привозила в Нью-Йорк, а именно в помещение Art-54, выставку, на которой дежурил Франческо, которого я встретила, когда пришла в галерею со своими слайдами, и который меня потом пригласил в Милан.
Наши короткие встречи и беседы – а их было пять – значили для меня так много в бессловесной нью-йоркской жизни…
Встреча первая.
Я показала ему слайды.
Он предложил мне их оставить, чтобы на них взглянула его мать, она же владелица галереи; назначил день следующего визита.
Встреча вторая.
Я пришла за своими слайдами, и чтобы услышать мнение матери.
Франческо сидел, в одиночестве, писал, – как я угадала, стихи.
Заговорили о Цветаевой; потом – о Гамлете… На его предложение выпить водки (бутылка в сейфе) я отказалась – стояла жара.
Пригласила их с матерью к себе на окрошку. Слайды оставила.
Третья встреча.
Он пришёл, пришёл один, я не сочла удобным спросить, почему один… Гуляли по парку. Сидели на зелёной скамейке. Говорили о Гамлете. Где-то выпили кофе.
Встреча четвёртая.
Он позвонил и пригласил нас с моей дочкой в Лонг-Айленд* (*нью- йоркский пригород особняков). Не преодолев тупого упрямства её (дочки) переходного возраста, я отправилась в путь одна.
Он ждал в конце платформы. Целуясь при встрече, крепко стукнулись светозащитными очками.
Во дворе большого дома то ли трудились, то ли хозяйничали какие-то люди, представленные мне как рабочие. Впрочем, они скоро исчезли, бесшумно уехали на своём грузовичке.
В доме не было ни одной картины, и вообще – всё в нем, кроме холодильника, было пустым.
…Я плавала в бассейне – вода оказалась холодной и чистой.
Спустившись к берегу океана, собирала белые камушки.
Франческо всё это время лежал на траве, лицом к небу.
(Пробегая мимо него со своими камушками, невольно отметила чуть странное выражение его лица: он будто боролся с неведомым мне искушением. Впрочем, богатство всегда придает людям – хотя бы чуть, немного – странности.)
Потом мы, вместе усевшись на траве, читали его – несколько сумбурные – стихи, пили плохой кофе… Говорили о Гамлете.
Пятая встреча – прощание.
Он позвонил и спросил, и вопрос прозвучал некстати: не мог ли бы он поселиться у нас, со мной, с нами.
Удивившись, смутившись, испугавшись разоблачения истинной своей бедности и устыдившись оной, я ответила: это неудобно.
Почувствовала себя в чём-то виноватой: обещала немного подумать…
Под вечер он позвонил снова, сказал: улетает. Времени на путь к JFK* (*аэропорт в Нью-Йорке) – увидеть, проводить (оставить?) – было в обрез; денег – тоже.
* **
Между встречами. Матрёшки.
Однажды Франческо рассказал мне по телефону, как он побывал в Москве.
Ему было пять лет. Он тогда всё время проживал в лонг-айлендском доме, принадлежавшем ему с самого рождения, в том, что на B.View. При нём постоянно был его гувернёр, аккуратный англичанин Брюс. Изредка на глаза попадалась коренастая испанка со шваброй: проходила мимо в дом; исчезала, закончив уборку. Кто-то (как он думал) незримо и неслышно наводил чистоту и порядок, наполнял холодильник продуктами, бассейн – водой… Так было всё детство. Из прогулочного двора можно было спуститься к океану – берег тоже безусловно принадлежал нашему герою. Соседний, вечно пустой, дом молча взирал на мальчика безлюдными окнами. Лишь однажды в окне упомянутого дома показалось лицо девушки. Лицо рассеянно обозревало зелёное пространство с заключённым в нём мальчиком Франческо, время от времени отхлёбывая из подносимой ко рту чашки какой-то напиток, – чай или, скорей всего, кофе… Кофе кончился, девушка повернулась и ушла навсегда то ли вглубь дома, то ли вообще из живой природы особняков. Долгие годы вслед за этим событием воображение рисовало привидений, духов, инопланетян, слетавших спецрейсом в Лонг-Айленд.
Его старший брат проживал в таком же, но только другом особняке,
на С.Road, со своим гувернёром. Братья не любили друг друга.
Мать с другом жили в Париже, отец с подругой – в Риме.
…Когда Франческо исполнилось пять лет, к нему приехал отец и забрал его на время к себе в Рим, а затем в Москву, где у него, скромного итальянского миллионера Чезаре намечался выгодный контракт, а хорошеньий маленький мальчик Франческо своим присутствием мог помочь, – вернее, поспособствовать успеху мероприятия.
Улицы Москвы шестидесятых запомнились чистыми, светлыми, оживлёнными. На деловых и взрослых встречах Чезаре-Младшему больше всего хотелось пить, писать, спать, спрашивать, трогать… Однажды, улучив свободную минуту, отец привёл его в магазин «Берёзка», где было много красивых вещей. Но более всего мальчика поразили своей красотой куклы под названием «Матрёшки». Отец наотрез отказался купить «эти дорогие и бесполезные безделушки»; он нервничал, боялся куда-то «не успеть». Захваченный созерцанием «Матрёшек», малыш сам не заметил, как потерял из виду отца. Вышел на улицу – вероятно, улицу Горького. Пошёл вправо… Пошёл влево… Заревел. Его тотчас окружили люди, о чём-то спрашивали по-русски, – он не понимал и плакал всё громче и громче. Пришёл полицейский* (*конечно, милиционер), тоже говорящий на непонятном русском… Вечером в «полицейский» участок приехал отец, вызванный по телефону из отеля. Франческо в это время уже уплетал мороженое и беседовал по-английски с рыжым парнем, который пришёл в полицию (то есть в милицию) специально для контакта с «юным другом» Франческо. Несколько дней спустя оба Чезаре вернулись из Москвы: старший – в Рим, младший – на много-много лет в Лонг-Айленд, где он закончил университет, а потом путешествовал по Африке и Европе, писал стихи, скучал.
Матрёшек никогда больше не видел, лишь вспоминал во сне; и ещё – ту девушку, с чашкой в руках, за окном…
Поздней осенью 1989 года в день его тридцатилетия на адрес флорентийского пансионата «Via del Serragli» придёт посылка из Нью-Йорка. Он откроет белую картонную коробку; из снегообразной ваты-амортизатора выглянет весёлое чернобровое лицо Матрёшки.
За Первой – Вторая, за Второй – Третья, за Третьей – … … Седьмая, самая хрупкая в получившейся шеренге тёзок, и с ней маленькая голубая записка:
«Дорогой Франческо,
с днём рождения.
Матрёшки».
«Благослови Господь на жизнь и поэзию», – думала я, погружая деревянных красавиц в посылочную коробку.
* * *
Он уехал, улетел, потом писал мне отовсюду. Рим, Турин, Флоренция, Милан… Звонил – правда, «коллект», т.е. за мой счёт. Я оплачивала счета, влезая в долги, и была уже не в силах из них выбраться…
И вот мы с ним решили во что бы то ни стало увидеться. Не было денег. Не было денег всё лето. Не было осенью. Зимой один коллекционер неожиданно прислал мне чек за картину, купленную в рассрочку больше года назад…
Билет на конец декабря я не достала. Рождество прошло врозь, новогодняя ночь – врозь. Наконец, связалась я с кампанией «NowVoyager». Содрав с меня лишние пятьдесят долларов за регистрацию, ещё сто – как некий «залог», да триста пятьдесят – за «дешёвый» билет, который я на руки так и не получила, таким образом отправляли меня в качестве курьера на две недели в Милан с каким- то пакетом.
Визу удалось получить в два дня. Женщина-консул, оказавшая мне столь особое снисхождение, поверив на слово, что я не останусь в Италии, а вернусь к моей дочери и моим картинам, напутствовала фразой:
– Только будьте там осторожней…
Вечером накануне отлёта позвонил Франческо и предложил встретиться в Париже. «Вот идиот», – заметила дочка. Я стала объяснять ему, что во-первых, для таких как я, «stateless», нужно ждать визу для въезда в Париж месяцами, а не минутами; и во-вторых, невозможно отказаться теперь от поездки в качестве курьера без неприятных для себя последствий… «И в-третьих, – подумала я, – откуда же взять такие деньги?» Вообще, наша дружба всё больше напоминала спортивный поединок между зайцем и черепахой. Кажется, уговорила его: обещал встретить в аэропорту в Милане. Напевая «ла-ла-ла-ла…» на музыку Andante, Simfonia Concertante (К.364) Моцарта, уложила в сумку вещи; приготовила портфолио для показа в миланских галереях и полетела…
* * *
Мне хорошо знаком полёт,
Как ломота в уставших крыльях:
Распиливая небосвод
В мега-физических усильях,
В мета-физические сны
Лететь – влюблённым привиденьем,
Алкоголичкою Весны
На грани зимнего паденья…
…С утренней зарёй прилетела в Милан, отдала свой курьерский пакет кому надо – Франческо на аэровокзале нет.
Вместе со всеми новоприбывшими села в автобус, который шёл на центральный (железнодорожный) вокзал.
Звоню Франческо – к телефону никто не подходит.
Торчу до вечера на вокзале – голодная, грязная, с тяжеленной сумкой. (Русский издатель из Нью-Йорка просил разослать альманахи авторам, живущим в Европе: думал, так дешевле.) Положение моё осложнялось незнанием итальянского языка. Лишь в конце дня помог англоговорящий прохожий: проводил в бюро информации, и к ночи я сняла номер в самом дешёвом отеле.
(Для тех, кто будет в Милане, и в подобной ситуации: самые дешёвые гостиницы отмечены пятью звёздочками, самые дорогие – одной). Здесь я провела четыре ночи, за которые хозяйка содрала с меня (плату) как за шесть и с этим (миланским?) мародёрством ничего нельзя было поделать: плати, и всё, – а то не отдам вещи…
Комнатка была холодная, тесная – вертикальный гроб, да и называлась-то она «камера»… Простыла, мучительно кашляла. Вызванивала Франческо. Слышала в ответ частые гудки. Решила: телефон «сломался». Ещё думала: он, вероятно, не устоял перед соблазном прогуляться до Парижа в каникулы. – Говорил, работает в школе, учителем английского языка. Ходила встречать все парижские поезда, искушая окрестных сексуальных охотников, какими кишат улицы Милана.
Восьмого января – конец всем каникулам – поехала к нему по адресу на конверте. Это был, как оказалось, дорогой отель за городом. Вызвали его из номера сто пятьдесят семь. Вышел, обрадовался…
И вот снова я вижу его милое лицо с влажными, красиво очерченными губами; черно-карие глаза (чёрные зрачки – на всю коричневую роговицу; странный взгляд бессильной борьбы с неведомым мне искушением…) Вошли в номер.
Тут была не какая-нибудь тебе «камера»: цветной телевизор, светлые комнаты с выходом на балкон-лоджию, роскошная библиотека поэзии, велосипед в углу, мои матрёшки – рядком на книжной полке; белый телефон… Франческо достал из шкафчика водку; чтобы согреться с мороза, я сделала один глоток «за встречу». Запила кофе. Разливая кофе по чашкам, он бросил туда несколько крошечных таблеток – сахарина, как сказал… Отдавая по его приказу все свои деньги, потеряла сознание. Очнулась на полу ванной в луже коричневой рвоты. Отхлебнула поданного кофе и снова отключилась… Снова очнулась, теперь на полу спальни, почувствовала боль от ударов по голове, по скулам, по груди, по тазу, по ногам… Увидела над собой бешеные глаза садиста, пену в углах рта. Стиснув зубы, терпела удары, молчала, глядя прямо ему в лицо…
Очнулась, услышала собственный надрывный кашель.
Инстинкт жизни подсказал: избегать его кофе. Незаметно выплеснула поданный напиток.
Видела: наступает вечер (или утро?). При негаснущем электрическом свете повсюду – беспокойно мечется по комнате безумный тип в распахнутом халате, сверкая огромным несгибаемым красным членом; нервно перебирает книги, вещи; присаживается у телевизора – тоже, как и свет, не выключающегося; секунду смотрит в расписные лица итальянских киногероев и снова вскакивает; падает на край кровати и быстро онанирует с помощью своих рук, выплёскивая тёплую вонючую сперму на пол – прямо мне в лицо, в глаза, на волосы… Достаёт из-под кровати оранжевое полотенце и опять онанирует – теперь достается полотенцу… Уходит на кухню, готовит для себя отвратительное месиво из горячей воды, зелёного горошка и неочищенного (но порезанного) лука; не переставая молоть языком какую-то бессвязную чушь, на ходу жрёт, жрёт из кастрюли. Затем воняет…
Мои вещи разбросаны по всей комнате. Вижу залитые кофе альманахи. Звонит телефон, он снимает трубку. Слышу его нежно- каркающее итальянское «ма-а-ма», и английское «bitch», что значит «сука».
– …Да-а, ма-а-ма, она сука, bitch, но мне это нравится. (Наверняка речь идёт обо мне. Ну не мило ли с их стороны…)
– …Ма-а-ма!! Я же сказал: мне нужны деньги, кеш* (*наличные, cash). Всё, чао, ма-а-ма.
Пинок в ухо. Закрываю глаза, терплю. Кашель выдаёт. Я в сознании. Читаю про себя медитации. Тоскливо, робко подумалось: продержаться бы… До…? Сквозь смеженные веки увидела: мимо отеля проплывает в небе геометрически и спектрально божественной красоты НЛО. Зависает над окном спальни номер сто пятьдесят семь; посылает мне в утешение своё нежное желто-розово-голубое свечение…
Удар по голове. Из последних сил сдерживая кашель, не раскрывая глаз, вижу: опустела комната. Лишь у одной из стен, освещённой из окна слева, стоит стол. На нём огромная стеклянная ваза полная цветов. Лилии, много белых лилий. Возвышаясь над ними, приветливо кивают мне кудрявыми кремовыми головками сибирская скабиоза и сныть полевая… Кашка… Маки… Тюльпаны – голубые, лиловые… В их тени притаился, желтеет угрюмо вех ядовитый… Входят три женщино-тени.
***
Этот навязчивый тройственный образ Совершенства с вечно меняющимися лицами уже много лет, многократно, являлся мне во сне и наяву: одинокие вечно втроём они переходили дорогу с полными коромыслами и спешили мимо с портфелями; охраняя, следовали в городских сумерках и летним днём выводили на тропинку из тёмного леса; подхватив, втаскивали в вагон уходящего поезда и с платформы махали вслед застиранными, заплаканными платочками…
…Бабушка, давно и тихо ушедшая из жизни земной, теперь с порога посылает мне крестные знамения.
…Красавица мать (умерла вскоре вслед за бабушкой, завещая мне перовую подушку, одну горсть сибирской земли и взгляд в небо; первое я отдала соседям, второе отняли таможенники, третье храню) склонилась надо мной так низко, что её длинные чёрные косы щекочут мне лицо… Понимая, чувствуя, каких усилий стоило ей прийти ко мне, – ни о чём не спрашиваю. Она сама произносит Слово, ветром лёгким шелестит по комнате:
– Галлы…
Потом ещё, растворяясь светлым облаком:
– Десятый век…
От этих странных слов (очевидно, дающих какую-то важную информацию о моём происхождении, или, может быть, о месте во времени наших с ней будущих встреч) утихает, уходит боль в затылке и за ухом; теперь я могу повернуть голову, чтобы увидеть тебя, третьим видением стоящую около вазы с цветами. О, моя дорогая подруга, старшая по разуму сестра, не оставляй меня. С ужасом и обречённостью думаю о… собственно, я забыла и никак не вспомню его имени – помню страх, и только страх перед ним.