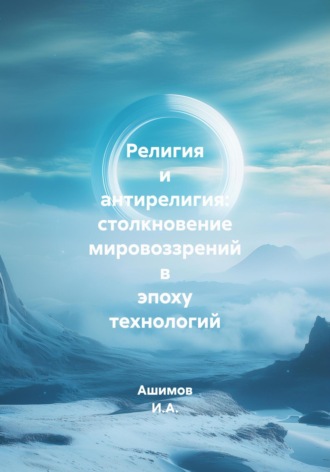
Полная версия
Религия и антирелигия: столкновение мировоззрений в эпоху технологий
Цифровой век создает новый «религиозный рынок», где институты и отдельные мыслители конкурируют за внимание и лояльность в виртуальном пространстве. Успех таких инициатив доказывает, что потребность человека в общине и смысле сохраняется, даже когда формы её удовлетворения радикально меняются. Это мощная новая форма распространения религиозного сознания, которая обходит традиционных посредников и иерархии. Именно такой тактики придерживается и наш оппонент Ахмад М.Хемайе. В этой связи, есть необходимость параллельной борьбы за сознание людей в атеистическом плане на такой же платформе.
Интересны сами по себе социологические и психологические контексты веры и неверия. Для понимания роли отдельных личностей в формировании религиозного и антирелигиозного сознания необходимо рассмотреть их в контексте более широких социологических процессов. Классические теории религии, разработанные К.Марксом, М.Вебером и Э.Дюркгеймом, заложили основу для этого анализа. Э.Дюркгейм рассматривал религию как важнейший источник социальной сплоченности и единства. Вебер, в свою очередь, исследовал роль религии в процессе рационализации, анализируя влияние протестантской этики на развитие капитализма.
В современной социологии продолжается спор между теорией секуляризации (идея о том, что религия теряет свое общественное влияние) и теорией рационального выбора, которая рассматривает религию как рынок, где различные «фирмы» (религиозные организации) конкурируют за «потребителей» (верующих), предлагая «сверхъестественные компенсаторы».
Применение этих теорий позволяет увидеть в фигурах, рассмотренных в докладе, не просто отдельных мыслителей, а агентов, действующих и формирующих эти масштабные социальные процессы. Например, синтез Ибн Сины соответствует интегративной функции Э.Дюркгейма. Критика Б.Спинозы и И.Ньютона может быть проанализирована через призму веберовской рационализации. А рост цифровой религиозности и деятельность Ахмада М. Хемайе идеально вписываются в модель «религиозного рынка» Родни Старка. Подобный анализ показывает, что отлучение Спинозы и еретические взгляды И.Ньютона были не только личными конфликтами, но и проявлениями напряженности между стремлением религиозных институтов к монополии и стремлением индивида к интеллектуальной свободе.
Нужно признать, что религия остается актуальной в обществе и необходимой для человека благодаря выполняемым ею социальным функциям, которые видоизменяются с течением времени. К ним относятся: интегративная, которая способствует чувству принадлежности и сплоченности; компенсаторная, которая помогает найти утешение и смысл; и регулятивная, которая формирует этические нормы. Например, в России посещение мечети служит важным ресурсом для интеграции мусульманских мигрантов, помогая им противостоять отчуждению и формируя чувство общности.
С психологической точки зрения, религия служит механизмом совладания. Религиозное совладание определяется как «использование религиозных убеждений или практик для решения проблем и смягчения негативных эмоциональных последствий стрессовых ситуаций». Процесс обращения к религии в кризисной ситуации можно описать в три фазы: Первая фаза – кризис, который выступает катализатором для обращения к вере. Вторая фаза – человек переживает озарение и обретает чувство осознания своего духовного пути. Третья фаза – эмоциональный всплеск утихает, и человек обретает спокойствие, основанное на вере.
Феномен «религиозного переключения», когда люди меняют свою религиозную принадлежность в течение жизни, показывает, что эти функции остаются востребованными. Данные показывают, что многие «переключатели» уходят от традиционного христианства, но не обязательно становятся атеистами. Это не означает, что потребность в социальных и психологических функциях религии исчезла; скорее, люди находят альтернативные способы их удовлетворения, например, в секулярных сообществах, группах самопомощи или через «духовность», не связанную с институциональной религией. Пример К.Сагана, предлагавшего «научную духовность», демонстрирует попытку создать светский путь для поиска смысла.
В конечном счете, будущее веры и неверия – это не линейный прогресс к окончательной победе одной из сторон, а постоянно меняющийся ландшафт, где люди ищут новые «компенсаторы» и формы общности в рамках «религиозного рынка», что подтверждается как макро-, так и микроуровневыми тенденциями. Анализ индивидуального влияния мыслителей становится более полным, если рассматривать его в контексте глобальных социологических тенденций.
Согласно данным Pew Research Center, с 2010 по 2020 г. мусульмане стали самой быстрорастущей религиозной группой, а христиане, хотя и остались самой крупной, сократились в процентном отношении. Основными факторами, способствующими этим изменениям, являются демографические и поведенческие. Рост числа «неаффилированных» в первую очередь объясняется «религиозным переключением», особенно отказом от христианства, которое потеряло значительно больше последователей, чем приобрело. Этот переход особенно заметен в США, где 21,9% взрослого населения являются бывшими христианами.
Взаимодействие между религией и обществом в постсоветском контексте носит особый характер. Наследие советского секуляризма, основанного на воинствующем атеизме, до сих пор ощущается в умах целых поколений. Это создает внутреннее напряжение: одни опасаются возвращения религии в общественную жизнь, другие ощущают нехватку свободы в ее исповедании. Роль государства является критическим фактором, который может как сдерживать, так и формировать религиозное сознание. Правовая база и геополитический контекст определяют, какие формы религии могут распространяться и как. Это создает напряжение между государственной консолидацией (например, в пользу традиционных религий) и динамичными, часто непредсказуемыми тенденциями индивидуального «религиозного переключения» и цифрового распространения.
Деятельность Ибн Сины (процветавшего под покровительством) и Б.Спинозы (отлученного в относительно толерантном городе) можно рассматривать как ранние примеры трения между интеллектуальной свободой и институциональной властью, которое продолжает проявляться в различных формах по сей день.
Итак, проведенный анализ демонстрирует, что роль отдельных ученых и мыслителей в развитии религиозного и антирелигиозного сознания не может быть сведена к простому противостоянию. Эта роль неразрывно связана с уникальным историческим, социальным и технологическим контекстом. «Пропаганда» и «антипропаганда» – это не просто действия, а сложные социальные процессы, которые проявляются по-разному: от всеобъемлющего синтеза Ибн Сины до прямой атаки Р.Докинза, от радикального переопределения Б.Спинозы до конструктивной духовной альтернативы К.Сагана.
Эти индивидуальные роли не существуют в вакууме. Они отражают и формируют более масштабные социологические, психологические и демографические тенденции. Потребность человека в смысле, общине и цели сохраняется, даже когда источники удовлетворения этих потребностей смещаются от традиционных институтов к новым формам, включая цифровые сообщества и секулярные идеологии. Современный «религиозный рынок» становится всё более диверсифицированным, управляемым технологиями, глобализацией и продолжающимися демографическими сдвигами.
В заключение можно утверждать, что в гиперсвязанном и постсекулярном мире будущее веры и неверия будет определяться не окончательной победой одной из сторон, а постоянным поиском новых форм для удовлетворения глубоких человеческих потребностей.
Деятельность Ахмада М. Хемайе, которая сочетает традиционную ученость с современными медиа и гуманитарной помощью, а также распространение цифровой религиозности, являются свидетельством того, что религиозное сознание адаптируется к новым условиям. Этот процесс требует дальнейшего изучения, чтобы понять, как будет выглядеть религиозный и духовный ландшафт в ближайшие десятилетия.
Глава
III
.
Диалог веры и разума: Ахмад Хемайе и философские традиции
Сейчас во всем мире наблюдается смена парадигмы сознания людей в сторону религиозности. Согласны? В особенности, это проявляется в обществах постсоветских государств. Некогда, поколения людей Советского Союза находилось в состоянии настоящего атеистического угара, а сейчас все переживают время внезапного всплеска религиозного сознания людей. Парадокс в том, что за три-четыре десятилетия атеизм стал «подсудимым», духовенство, с которым он вел нещадную борьбу, стал позиционировать себя в роли «прокурора», а власть – в роли «судьи» В чем дело? Почему случилось такое? Надо ли мирится с этим явлением? Как мне кажется вся проблема заключается в том, что в нашей стране исламская идеология постепенно становится государственной идеологией.
По сути, как утверждал еще Ибн Сино тысячу лет тому назад «религия – это проводник общегосударственных задач, у него два лица: одно обращено к государству, другое – к народу. Государство разговаривает с ней – проводником своих идей, посредством софистического вида суждений, чтобы добиваясь своего, скрывать при этом истинное положение вещей: пусть пропагандируют то, что ей велят, а не то, она считает нужным вводить в массы. С народом же власть предлагает религии говорить посредством диалектического суждения, основа которого – общераспространенное мнение». Зацените, какова все же проницательность этого великого мыслителя, жившего тысячу лет тому назад.
Действительно, вопросов роста религиозности нашего общества много. Однако, ошибочно было думать, что в свое время и наши сомнения в отношении ислама, мечети, медресе, их миссии, а также религии в целом, носили лишь интеллектуальный характер. Между тем, ситуация сейчас такова, что наше общество просто обязано поднять уровень своего научно-мировоззренческой культуры, соответствующему нашему веку, характерной чертой которого является научно-технологический прогресс. В этом аспекте, казалось бы пришло время доказательного суждения о месте религии в современном обществе.
Как вам известно, в 2012 г. огромным тиражом издана на русском языке и распространена, главным образом, в постсоветских странах, хорошо иллюстрированная книга доктора Ахмада М.Хемайя «Ислам: Почему? Отчего? Зачем?», которая представляет собой глубокий обзор структуры ислама и методов аргументирования в нем. Он излагает позицию ислама по отношению к другим религиям, пытается прояснить многие важные стороны ислама, как государственной системы, его свободы и цивилизованности. Бесспорно, там много интересного, даже поучительного, но в целом, с первой страницы до последней наивность, абсурдность, субъективность.
Названная книга носит ярко выраженный просветительский и откровенно пропагандистский характер. Действительно, там много иллюзорного, наносного, абсурдного, а поверхностные рассуждения автора, совершенно не отвечают требованиям формальной логики, содержит много противоречивых и абстрактных умозаключений. Люди, которые в силу малого своего кругозора, а потому заблуждающиеся и обманывающие себя, думая, что их сомнения и снисходительность к вере только лишь интеллектуально-познавательны, могут подпасть под чары витиеватых, красиво изложенных текстов автора.
Мы, сделав вышеуказанную книгу и его автора объектом критики, не пускаемся в огульгую критику, а попытались провести анализ его утверждений и сравнивая с основными положениями религиозных воззрений Ибн Сино, Б.Спинозы, И.Ньютноа и др. Как говорил Ибн Сино религия всегда создавала общественное мнение. А ведь его, как, впрочем, и наше отношение к Богу вначале всегда бывает экзистенциально драматическим и в него входят борения инстинкта, интуиции, здравого смысла, абстракции и интеллекта в целом. Однако, символично то, что даже тысячу лет спустя категория мышления Ибн Сино, продолжает поражать наше воображение.
Нас не покидает чувство, что Ибн Сино, будучи религиозным, все же в своих теориях и концепциях допускал искры материализма и атеизма. Ему удалось вывести в мусульманскую философию самое ценное – мысль о вечности материи и мира, о том, что мир не создан богом, существует вечно и развивается по своим, не зависящим от бога законам. С другой стороны, не может не поражать то, что спустя тысячу лет, ученые-исламисты, подобные Ахмаду М.Хемайя продолжают «толкать» в народ исламские догмы о несотворимости мира, о том, что Аллах искусный «планировщик» всего и вся.
Безусловно, такие книги, как «Ислам. Почему? Отчего? Зачем?» запросто могут перетянуть колеблющихся людей на строну религии. В этой связи, предлагаю взять содержание книги всерьез за отсылочный материал для наших рассуждений по вопросам ислама и религии в целом. Ведь под нашей рукой нет других капитальных изданий по исламу. Помнится, в свое время, озабоченный и, по своему «озлобленный» на тенденцию постепенного погружения нашего общества якобы в религиозное мракобесие, писал и обстоятельные труды, касающихся парадигмы сознания человека.
Одной из главных задач моей книги «Концептуальное заблуждение. Атеистический диалог ученых» (Ашимов И.А., 2024) было переложить главные догматы богоутверждения на законы диалектики природы, думая о том, что именно эти законы во взаимосвязи и последовательно раскроют скрытые смыслы, источники, механизмы и направления развития религии, раскроют сущность их законов запрета на противоречия, тождества, допустимости или исключение третьего. При этом были у меня моменты глубокого сомнения, как я выразился выше – борение духа и интуиции.
Помню, осмысливая тезис Эпикура «Очевидно, что сейчас существует Нечто, а Нечто не могло возникнуть из Ничего», я задумался всерьез о постижимости этого Нечто. Не скрою, именно это послужило мотивацией для моего серьезного занятия над проблемами формирования и развития научно-мировоззренческой культуры. Пустившись в исследования, понимая субъективность мышления человека и, даже доказывая который раз тот факт, что само развитие мира – это символ возможности иного, нежели формально-логическое.
А если в серьез, что мы хотели бы доказать своими мысленными экспериментами? В чем заключалась сущность наших исследований? И что в итоге? Хотя, следует признать, что природа религии предельно многоаспектная, историчная и в пылу исследования или обсуждения тех или иных ее сторон, мы часто этот факт не учитываем, а зря. Надо отдать должное автору вышеуказанной книги. Он изобретателен и прозорлив. Ахмад М.Хемайя в самом начале своей книге ставит кардинальный вопрос – «откуда взялась Вселенная?», как-бы задаваясь великим сомнением «Мог ли взрыв создать все эти прекрасные планеты и сложные галактики и солнечные системы?». Вот такой вот кардинальный вопрос на засыпку.
Действительно, до сих пор на кардинальный вопрос «что было до Большого взрыва?» никто еще не нашел ответа. Сутью и конечным итогом моих же работ был анализ якобы несостоятельности основных идейных основ главных религий мира, каковыми являются христианство и ислам. В процессе работы над научными трудами мне пришлось пообщаться с представителями всех религиозных конфессий, с исследовательской целью (!) побывать даже на хадже в Мекке. Скажу так, человек, посетивший Мекку и Медину в дни хаджа по-настоящему встрепенется, навсегда запомнив многомиллионную толпу внешне экзальтированной толпы паломников.
В Мекке-Мадине все подстроено так, что до конца пребывания в хадже паломник продолжает находиться в религиозном экстазе, прислушиваясь не столько внешнему, сколько уже внутреннему звучанию «ля-байка». По сути, паломничество в Мекку и Медину – это громадная, самая мощная и самая результативная пропагандистская машины. Человека, прошедшего через ее жернова, как правило, риторически можно считать почти потерянным для атеистического мировоззрения.
Посещение Мекки с ее Аль-харамом и многомиллионной толпой паломников представляет то еще зрелище. Я видел во многократно малую, но также впечатляющую толпу верующих на центральной площади нашей столицы в айт-намазе. Мне вспоминается, некогда, философ Ж.Урманбетова (2008) рассуждала о проблемах нового и в сознании людей Кыргызстана. – «Невольно содрогаешься, когда видишь переполненную центральную площадь поклоняющихся людей во время праздничных намазов, сосредоточенных на отправлении своих внутренних посылов. Причем не надо быть социологом, чтобы заметить неуклонный рост числа молодых людей с особенной преданностью «уходящих» в это зыбкое духовное пространство».
По сути, хадж – это величайшая площадка для верующих мусульман, он является одним из главных столпов ислама. В какой-то мере я солидарен с Ахмадом М.Хемайя о том, что «во время паломничества человек сбрасывает с себя всю мирскую несущественность и сосредотачивается на своих корнях в качестве человека и как утверждает ислам – существа Аллаха». Что меня поразило, то это взаимное радушие всех людей, посетивших Мекку и Медину, независимо, от расы, цвета кожи, статуса. Там, везде и всюду, в толпе, на дорогах, в магазинах и рынках за самую малость доставленного неудобства человеку можно услышать слово «хадия» с обеих сторон, что означает великодушно прощаю. Это по настоящему впечатляет.
Создается впечатление, что Мекка, Медина представляют собой большую благостную мечеть, а главным дело паломников является всепоглощающее богослужение. Признаться, такое восхищение я слышал от уст многих людей, побывавших на хадже. По возвращении сюда вас, безусловно, поразил тот контраст между увиденным и услышанным там и у нас на нашей грешней земле. Ведь так? Здесь же у нас впечатляет совсем другие видения.
Действительно, когда видишь на улице в толпе молодых людей, с жидкой бородкой, внешне неряшливых, одетых (по арабским канонам) в широкие штаны и длинные халаты, а также обычные шлепанцы на босу ноги, грубых, неотесанных в поведениях и поступках, становится не по себе. Нам кажется, что в голове у них пусто, вместо мозгов – клубки непонятной арабской вязи. Какое заблуждение! Я часто ловлю себя на мысли о том, надо же таким людям упиваться своим несовершенством, с упорством, достойным лучшего применения, уходить от ответов на главные вопросы бытия, а вместо этого, долдонить под нос молитву.
Создается впечатление, что жизнь для таких вот верующих – это также большая мечеть, а повседневная деятельность – также лишь служение Аллаху, как это написано в книге Ахмада М.Хемайя. Кажется, что у них нет ни понимания, ни стремление чего-либо осознать в реальности. Думается, что природа таких людей такова, что они под разными предлогами уклоняются от обсуждения любой реальности, принимая ответы, далекие от Истины. Хотя, есть, конечно же, среди молодых верующих, люди которых волнуют «вечные» вопросы – о смысле жизни, о добре и зле, о смирении и сострадании, но, в большинстве своем, у многих из них сквозит, сознательный отказ от каких бы то ни было поисков ответов. Почему же так происходит? Чем руководствуется такой человек?
Вопросы не простые. По мнению психологов, во-первых, наверное, здесь сказывается опасение, что в случае принятия того или иного определенного мнения человеку веры придется переоценивать самого себя, свою жизнь и свои устремления, а это всегда неприятно и болезненно, во-вторых, вероятно, оказывает влияние и боязнь, что кто-то будет навязывать нам свою волю, лишив, таким образом, свободы в определении своего пути. Многие верующие люди убеждены в том, что высшая оценка их поступков будет дана в обществе только после смерти, то есть в загробной их жизни, которая представляется им не только красивой, беззаботной, сытной, но и справедливой.
Достойны уважения те верующие, кто вопрошает главными вопросами бытия: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Но таких совершенно мало. А потому, возникает вопрос: удерживает ли ислам в равновесии этот и иной мир в равновесии? Я не разделяю мнение и оптимизм Ахмада М.Хемайя, который полагает, что именно «ислам как единый стиль указывает на гармонию в творениях Аллаха». Между тем, еще В.И.Ленин писал: «В религии ищут утешение». В наше время, в эпоху кризиса и хаоса народ слишком несчастен, чтобы не быть религиозным. Когда впереди ничего не светит, крах надежд, страх. Так, наверное. Есть древнеримское изречение «Страх создал богов». В этом заключается правда.
Есть такие – ищущие себя натуры, которые вопрошают главными вопросами бытия: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Однако, дорастут ли эти люди до такого уровня осмысления своей природы? Или же они посчитают, что «смиренное поведение перед Аллахом», как пишет Ахмад М.Хемайя, – это вполне достаточно? Однако, в жизни можно встретить и много зрелых людей, неординарных личностей, настоящих мудрецов или же вдумчивых и умных людей, которые искренне верят во Всемогущего Аллаха и посвящают много сил, энергий, таланта и даже всю свою жизнь проповедям религии.
В Кыргызстана таких людей целая плеяда. Широкое и быстрое распространение исламской идеологии у нас в стране во многом благодаря именно таким духовникам. Многие из них котируются в статусе шейхов. Причем, шейхами признает, прежде всего, верующий народ. Этих интеллектуалов народ хорошо знает, почитает, восхищается. Эх! Направить бы интеллектуальный потенциал, талант и энергию «шейхов» на науку, культуру, образование! Конечно же, искренне жаль неразборчивости этих неординарных личностей, которые могли бы составить костяк настоящей интеллектуальной элиты нашего народа. Жалко, что у народа иногда нет альтернативы, к которой можно было бы прислушаться и сверять свои помыслы и поступки.
Согласитесь, на наших глазах рушится целый мир, в котором мы росли, развивались и проживаем. Этот мир был светским, в меру атеистическим, но светским. Если бы все обстояло, как писалось в «Кодексе строителя коммунизма» или как пишется в книге «Ислам» Ахмада М.Хемайя – Ислам – это верный путь к истине, к гармонии, к светлому. Горько осознавать, что в обществе все больше становится людей, у которых зачастую самым главным объявляется не добро, не устремление к Богу, а внешние, как построение мечетей или второстепенные, в виде религиозных обрядов действия – намаз, чтение Корана и пр. Такие люди без каких-либо мыслей и осознаний, без каких-либо откровений и познаний слепо выполняют обрядную и ритуальную часть, а между тем религия – это мировоззрение и особая форма мироощущения. При этом сами ревнители точности обрядов обычно не могут сколько-нибудь связно объяснить их смысл, порой не знают даже истории их возникновения и развития.
Получается, что вера в Бога подменяется верой в безусловную, ни с чем не связанную магическую силу обряда. Это касается и возведения в абсолютную ценность коранических текстов, когда люди пытаются найти прямые и исчерпывающие ответы на все вопросы в аятах (статьях) Корана, слепо следуют урокам даавата (пропаганды). Однако, ни одна книга, а тем более во многом непонятная для абсолютного большинства людей Коран, не может заменить личного развития человека в процессе земной жизни. Тем более если учесть тот факт, что в последнее время появилось множество грамотеев и толкователей священных текстов, которые не чураются того, что ведут свою проповедь среди ведущих ученых, не испытывают неловкость от того, что, имея в лучшем случае среднее образование, пытаются вести пропаганду в среде высокообразованных людей и специалистов. Мы же это видим практически на каждом тое, обрядах, поминках.
Такие духовники, обильно цитируя арабский текст Корана, тем самым, показывая свою религиозную ученость, они без стеснения, бессовестно манипулируют сознанием, вниманием и временем публики, которую не надо учить и наставлять. Неужели им не понятно, что злоупотребляют нашей снисходительностью и терпением. Надо ли с этим мириться? Конечно же, нет. Вспоминается Станислав Ежи Лец, который остроумно заметил, что «В правилах хорошего тона предусмотрено все, даже как должен вести себя неверующий по отношению к Богу». Вероятно, нужно прямо и открыто высказывать им свои замечания. Однако, многие проявляют снисходительность к заблуждениям и невольным недостаткам верующих людей.
«В исламе, наука и вера образуют симбиоз», – гласит в книге Ахмада М.Хемайя. Абсурдность такого утверждения не вызывает сомнения в просвещенном обществе. Наверняка, именно от такого понимания пошла традиция именовать имамов учеными, что не приемлемо по простой причине, что для них приемлем лишь созерцательно-иррациональное мышление. Куда им до настоящих ученых, орудием которых является строго рациональное научное мышление.
Однако, наука, как таковая и так называемая духовная наука рознь друг другу. Будем надеяться на то, что пройдет не так много времени, когда число искренне верующих заметно поубавится, так как глобализация в мире сделает свое дело – рационализирует восприятие мира во всем. То, что мы называем осознаванием, является многомерным процессом, постоянно изменяющим саму реальность. В нашем понимании наука и богословие – принципиально разные, практически несовместимые вещи. Потому речь идет о подмене понятий. Между тем, это самый опасный рокировочный хода в идеологии. В этом у нас в стране преуспевают одиозные трибуны религиоведов, манасоведов, тенгриановедов и прочих сообществ. А что получается у нас? Что Ислам, Манас, Тенгри – стали средствами от головы? Жаль, что на таком фоне все остальное ушло в тень – наука, образование, культура.











