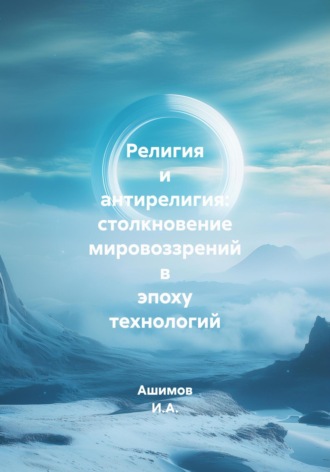
Полная версия
Религия и антирелигия: столкновение мировоззрений в эпоху технологий

Ашимов И.А.
Религия и антирелигия: столкновение мировоззрений в эпоху технологий
Предисловие
Введение в этот труд – это приглашение к честному диалогу о месте веры и разума в XXI веке. Он не предназначен для того, чтобы дать простые ответы или занять одну из сторон в вечном споре между религией и атеизмом. Задача книги состоит в том, чтобы показать, что это противостояние не является простой дихотомией, а представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором задействованы социальные, психологические и технологические факторы.
Труд основан на убеждении, что для адекватного понимания современного религиозного ландшафта необходимо слияние публицистического стиля с философским анализом. Публицистика позволяет уловить пульс времени, зафиксировать актуальные вызовы и проанализировать их, тогда как философия дает инструментарий для глубокого осмысления, помогая выявить скрытые причины и закономерности.
Эта книга – попытка объяснить, как в мире, где наука достигла беспрецедентных высот, религия продолжает оставаться мощной силой. Она показывает, как религиозное сознание трансформируется и адаптируется, используя современные технологии для своего распространения. В то же время, она не уходит от критического взгляда на религиозный догматизм и его влияние на общественное сознание. Это исследование для всех, кто ищет понимания, а не окончательных истин. В чем заключается положительная сторона данной книги?
Во-первых, проведен комплексный анализ, так как мы не ограничивались простым описанием религиозного возрождения, а провели достаточно глубокий философский и публицистический анализ, рассматривая это явление в контексте глобализации, культурных изменений и психологических потребностей человека.
Во-вторых, применен междисциплинарный подход, умело сочетая философские рассуждения с публицистическим стилем, делая сложные темы доступными для широкой аудитории. Этот подход позволяет не только осмыслить теоретические аспекты, но и применить их к реальным событиям.
В-третьих, выполнено критическое осмысление ситуации и материала, ибо, мы не принимали религиозные или атеистические догмы как должное, а подвергли их критическому анализу. Мы говорим, что истинная борьба идет не между «наукой» и «религией», а между догматизмом и критическим мышлением, независимо от того, в какой мировоззренческой системе он проявляется.
В-четвертых, использованы исторические и современные примеры. Мы приводим примеры из истории философии (Ибн Сина, Спиноза, Ньютон) и современности (Ахмад М. Хемайе), что делает анализ более конкретным и убедительным. Она демонстрирует, как старые философские проблемы находят свое отражение в современных дебатах.
Естественно, книга содержит и отрицательные стороны.
Во-первых, речь, прежде всего, может идти о склонность к односторонности. Несмотря на заявленный нами философский подход, в некоторых частях книги прослеживается явный уклон в сторону атеистического мировоззрения. Текст называет некоторые части «пропагандистскими» и критикует отсутствие «рациональности» у отдельных авторов, что может говорить о предвзятом взгляде.
Во-вторых, есть, к сожалению, и негативная коннотация. Мы вольно или невольно применяли такие термины, как «борьба за господство», «религиозный реванш» и «исламская экспансия», что, возможно, создает атмосферу противостояния и может быть воспринято как предвзятое отношение к религии, в частности к исламу.
В-третьих, не смогли мы исключить и некоторую субъективность в оценке. Признаемся в том, что допускали оценочные суждения, например, о «неутешительном выводе» о дефиците «научно-атеистического миропонимания», что может снизить ее объективность в глазах читателя, ищущего нейтральное изложение.
Глава
I
.
От секуляризации к «цифровой религиозности»: парадоксы веры в XXI веке
Мы живем в XXI веке – в веке высоких технологий, космоса, квантового мышления, искусственного интеллекта, а между тем, являемся свидетелями того, что повсеместно, в том числе и в нашем обществе, отмечается парадоксальный всплеск и небывалый темп смены парадигмы религиозного сознания. В чем заключаются истоки такого явления?
Допускаем, что рост религиозности в современном обществе, который можно назвать парадоксальным на фоне продолжающейся секуляризации (отделения религии от государства и общественной жизни), является сложным и многогранным явлением. Его нельзя объяснить одной причиной, но можно выделить несколько ключевых факторов, которые, как правило, действуют в совокупности.
Исследователи считают, что религия – это, прежде всего, механизм совладания со стрессом и кризисом. В современном, стрессовом мире религия выступает как эффективный механизм совладания с жизненными трудностями. Этот процесс можно описать в три этапа: в первой фазе человек переживает кризис, который становится катализатором обращения к вере; во второй – происходит своего рода «озарение», в результате которого человек чувствует, что обрел духовный путь; и в третьей фазе – эмоциональный всплеск утихает, оставляя состояние спокойствия и умиротворения, основанное на вере.
Психологи выделяют «позитивное» и «негативное» религиозное совладание. Позитивное совладание, связанное с поиском смысла и духовной поддержкой, коррелирует с меньшим уровнем тревожности, депрессии и повышением оптимизма. Напротив, негативное совладание, выражающееся в сомнениях и конфликте с верой, может приводить к усилению дистресса. Наличие этого механизма – от поиска смысла в жизни до обретения мира и гармонии – обеспечивает религии практическую ценность, которая выходит за рамки абстрактных убеждений.
Итак, можно выделить ряд функций религии:
1) Компенсаторная функция религии. Во-первых, речь идет о поиске смысла жизни и ответов на экзистенциальные вопросы. В условиях стремительных перемен, утраты традиционных ценностей и ориентиров, люди часто обращаются к религии в поисках смысла, цели и твердой духовной основы. Религия дает ответы на вечные вопросы о жизни, смерти, страдании, справедливости, которые не могут дать наука или светское мировоззрение. Во-вторых, речь идет о снятии психологического и социального напряжения, ведь религия все же помогает справиться со стрессом, чувством одиночества, страхом перед неопределенностью и смертью. Она предоставляет утешение, надежду и чувство защищенности в трудные времена. Особенно это проявляется в периоды социальных кризисов, экономических потрясений или личных трагедий. В-третьих, речь идет о стремлении к справедливости, так как для многих людей, сталкивающихся с несправедливостью в реальном мире, вера в божественное воздаяние или карму становится важной опорой.
2) Глобализация и культурные изменения. Во-первых, речь идет об ответе на глобализацию, ибо, она, приносящая с собой унификацию и стирание культурных границ, может вызывать у людей чувство потери идентичности. Религия в этом контексте часто воспринимается как способ сохранить свою культурную самобытность, национальные традиции и противостоять внешнему влиянию. Во-вторых, речь идет о реакции на секуляризацию, ведь очевидно, в некоторых обществах, где секуляризация привела к ослаблению моральных норм и социальных связей, религия воспринимается как инструмент для восстановления порядка и традиционных ценностей. Это может быть связано с опасением за моральное состояние общества. В-третьих, речь идет о миграции и культурном обмене, ибо, массовая миграция приводит к столкновению разных культур и религий. В этих условиях религия может стать важным элементом групповой идентичности и социальной поддержки для мигрантов.
3) Индивидуальные и социальные потребности. Во-первых, укажем на формирование идентичности. Для многих людей религиозная принадлежность является важной частью их личной и гражданской идентичности. Она помогает определить, кто «свой», а кто «чужой». В некоторых странах, например, в России, православие для многих является элементом «цивилизационного кода», а не только верой в Бога. Во-вторых, можно отметить важность общины и социальной поддержки. Это связано с тем, что религиозные организации предоставляют своим последователям не только духовную, но и социальную поддержку. Они создают общины, где люди могут найти общение, помощь и чувство принадлежности, что особенно важно в условиях атомизированного современного общества. В-третьих, возможность использования религии как социального и политического инструмента. Ведь очевидно, что в рост религиозности в странах со слабо развитой экономикой обусловлен политическими или социальными процессами. Религиозные лидеры и институты могут использовать религию для мобилизации населения, укрепления власти или отстаивания определенных интересов.
4) Изменения в самой религии. Во-первых, адаптация к современности (модернизм). Религии не остаются неизменными. Многие религиозные течения и лидеры адаптируются к запросам современного человека, предлагая более гибкие и индивидуализированные формы веры, что делает религию более привлекательной для новых поколений. Во-вторых, новые религиозные движения. В современном мире появляются и активно развиваются новые религиозные движения, которые часто отвечают на запросы ищущих людей, предлагая им новые духовные практики и мировоззрение.
Мы также понимаем, что «парадоксальный всплеск» не означает повсеместный возврат к строгой религиозной практике. Часто наблюдается феномен так называемой номинальной религиозности, когда человек называет себя верующим, но не соблюдает все религиозные предписания. В этом случае религия выполняет скорее культурную и идентификационную, а не строго духовную функцию. Таких людей в нашей стране становится все больше. Однако, полагаться на таких людей в активной антирелигиозной пропаганде не реально.
Итак, религия как социальный институт, религия выполняет ключевые функции, востребованные в современном обществе. Компенсаторная функция позволяет людям находить утешение, трансформировать негативные эмоции и справляться с чувством отчуждения. Это особенно важно в условиях социальной фрагментации и индивидуализации, когда традиционные социальные связи ослабевают.
В нашей стране имеет место небывалый темп смены парадигмы религиозного сознания. Представители старого поколения, «наученные» советсвком атеизму ожидали совсем другое – упадок и исчезновение религии, но только не ее ренесанс. В современной социологии и культурологии долгое время доминировала теория секуляризации, предсказывающая неуклонный упадок религии в процессе модернизации общества. Согласно взглядам классических мыслителей, таких как Макс Вебер, рост рационализации и науки должен был привести к «расколдовыванию мира» и вытеснению религиозных объяснений. Этот подход предполагает, что религия, лишенная своей монополии на социальное и духовное пространство, постепенно утратит свою актуальность.
Однако, несмотря на эти прогнозы, современный мир демонстрирует явление, которое на первый взгляд кажется парадоксальным: в ряде регионов и социальных групп наблюдается сохранение, а в некоторых случаях даже всплеск религиозного сознания. В этой связи, мы задались целью проанализировать это явление, показав, что классические теории, хотя и остаются важными для понимания исторических тенденций, недостаточны для объяснения сложной, амбивалентной картины современной религиозной жизни. Вместо того чтобы говорить о простом упадке или возрождении, необходимо исследовать трансформацию религии как социального феномена.
Для обеспечения методологической точности необходимо определить ключевые понятия. В контексте данного анализа религиозность понимается не только как формальная принадлежность к той или иной конфессии, но и как «качество индивида или группы, проявляющееся в вере и поклонении священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, поведения и отношений как в религиозных, так и в нерелигиозных сферах».
На наш взгляд, такой подход позволяет выйти за рамки простой статистики и включить в анализ экзистенциальные, психологические и поведенческие аспекты веры. Глобальный религиозный ландшафт характеризуется сложной динамикой. Христианство остается крупнейшей религиозной группой в мире, составляя 28,8% мирового населения в 2020 г. В некоторых регионах наблюдается сокращение числа верующих: так, с 2020 по 2024 гг. число христиан в мире уменьшилось на 28 миллионов человек, с заметным снижением в Мексике и США. Количество буддистов также снизилось на 19 миллионов человек, уменьшив их долю в мировом населении до 4,1%.
Что касается ислама, то в период 2010-2020 гг. он был самой быстрорастущей религией в мире. Этот рост объясняется прежде всего демографическими факторами, когда значительная часть наблюдаемого "всплеска" религиозного сознания – это не столько новое явление, сколько прямое следствие демографического импульса, заложенного в структуре населения.
Помимо демографии, еще одной мощной силой, формирующей современный религиозный ландшафт, является феномен «религиозного перехода» – смена религиозной принадлежности в течение жизни. В США на каждого американца, ставшего христианином, шестеро покидают христианство, что объясняет отстающий рост этой религии. Аналогичная тенденция наблюдается и в католицизме: на каждого нового католика приходится 8,4 человека, которые покинули веру, в которой были воспитаны.
Наибольшую выгоду от этого процесса получают люди, не имеющие религиозной принадлежности. Число таких людей выросло на 270 миллионов в период 2010-2020 гг., и они были единственной группой, кроме мусульман, которая увеличилась как процент мирового населения. Этот рост представляет собой еще один уровень парадокса: как эта группа может так быстро расти, если она находится в «демографически невыгодном» положении Это означает, что «всплеск» религиозного сознания – это не просто рост числа верующих, а сложная реорганизация, где одни группы растут за счет естественной рождаемости, а другие – за счет сознательного выбора и смены идентичности.
Итак, ключевой аспект высокого темпа смены парадигмы религиозного сознания – это результат интегративной функции религии. Эмиль Дюркгейм рассматривал религию как важнейший источник социальной сплоченности и братства. Религия формирует уважение к законам и традициям, а также предоставляет людям чувство принадлежности к общности. В мире, где традиционные институты (такие как семья, местное сообщество) теряют свое влияние, религиозные общины эффективно заполняют этот вакуум, предлагая своим членам чувство единства и общую идентичность. Таким образом, «парадоксальный всплеск» является, отчасти, реакцией на те самые силы, которые, как предполагалось, должны были сделать религию устаревшей. Поиск смысла и общности в нестабильном и индивидуализированном мире делает религию не архаичным пережитком, а необходимым социальным ресурсом.
Так называемая «цифровая религиозность» является новым горизонтом веры. В последние десятилетия наметился еще один мощный фактор, влияющий на религиозную жизнь – распространение информационных технологий и развитие «цифровой религиозности». Этот процесс значительно ускорился на фоне пандемии COVID-19, когда многие религиозные практики переместились в онлайн-пространство. «Цифровая религиозность» обозначает новые формы веры и практики, которые возникают в онлайн-среде, включая социальные сети, вебинары и подкасты.
Возникли множество виртуальных культовых практик и онлайн-сообществ. Цифровые технологии создают новые, гибкие формы религиозной жизни. Цели «цифрового миссионерства» заключаются как в привлечении новых последователей, так и в укреплении существующих сообществ. В качестве методов используются создание онлайн-контента, вебинары, подкасты и использование социальных медиа. Примерами таких сообществ служат виртуальные церкви, как, например, «христианская церковь «Благая весть онлайн»», которая проводит богослужения, предоставляет доступ к проповедям и оказывает молитвенную поддержку русскоязычной аудитории по всему миру. Другие примеры включают VR-церкви, онлайн-медитации и цифровые ресурсы, помогающие в изучении священных текстов.
Такая цифровая трансформация веры разрешает ключевой конфликт между географически ограниченной природой традиционных религий и мобильностью современного населения. Интернет позволяет преодолевать физические барьеры и вести «цифровое миссионерство». Кроме того, цифровые платформы способствуют персонализации религиозных практик, позволяя людям формировать свой собственный, уникальный опыт веры. Это является прямым отражением культуры, ориентированной на индивидуализм и потребительский выбор.
Таким образом, технологическая адаптация становится мощной силой, способной не только противостоять секуляризационным тенденциям, но и активно способствовать возрождению религиозного сознания.
Прежде всего, для нашей страны важно отметить взаимосвязь религии и вопросов национальной идентичности. Религия остается одним из ключевых ресурсов, формирующих национальную идентичность и общественное единство. В то же время, она может быть использована как инструмент дестабилизации и управляемого конфликта, что особенно заметно в постсоветском контексте.
В странах Центральной Азии, несмотря на наследие политики воинствующего атеизма, религия (в частности, ислам) вновь играет важную роль в формировании морали и укреплении социальных связей, заполняя идеологический вакуум, оставшийся после распада СССР. Это демонстрирует, как в условиях трансформации религия может становиться основой для нового общественного согласия и возрождения национальной культуры.
Нужно подчеркнуть и роль религиозных общин в интеграции мигрантов. Связь между религией и обществом также проявляется в роли религиозных общин в интеграции мигрантов. Посещение мечетей, например, может служить важным ресурсом для интеграции мусульманских мигрантов в российское общество.
Религиозные общины предоставляют социальные сети, которые помогают мигрантам адаптироваться. Кроме того, религия выполняет важные психологические функции, повышая способность противостоять чувству отчуждения и формируя чувство принадлежности к сплоченному сообществу. Этот аспект напрямую связывает демографические тренды (глобальную миграцию) с социальной функцией религии. По мере роста миграции религиозные общины становятся жизненно важными центрами для сохранения культурной и социальной идентичности, что, в свою очередь, способствует «всплеску» религиозного сознания в принимающих странах.
Взаимоотношения между государством и религией также претерпевают изменения. В Европе существуют разные модели: от жесткого секуляризма, характерного для Франции и основанного на вытеснении религии из публичного пространства, до более гибкой модели в Германии, где церковь выступает партнером государства в социальной сфере и образовании. Пример России, где Федеральный закон от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» регулирует правоотношения в этой области, показывает, как государство признает «особую роль Православия», при этом уважая другие традиционные религии, такие как ислам, буддизм и иудаизм.
По мнению экспертов, такой сдвиг от политики подавления или жесткого разделения к более кооперативной модели является мощным внешним фактором, способствующим росту влияния религиозных организаций. Предоставляя правовую и социальную базу для их деятельности, государство, по сути, способствует публичному выражению веры, что помогает объяснить ее сохраняющуюся актуальность.
Каковы же прогнозы на будущее? Наблюдаемый «парадоксальный всплеск» религиозного сознания не является простым явлением, а представляет собой сложную, многоуровневую трансформацию. Классическая теория секуляризации, хотя и предсказала ослабление влияния традиционных религиозных институтов в развитых странах, не смогла учесть ряд динамических факторов, которые эффективно поддерживают и трансформируют религиозную жизнь в глобальном масштабе.
Проведенный анализ позволяет заключить, что причины этого явления обусловлены четырьмя ключевыми взаимосвязанными силами:
1) Демографический импульс, когда з
начительный рост мирового мусульманского населения обусловлен молодым возрастом и высоким коэффициентом рождаемости, что обеспечивает естественный прирост верующих.
2) Психологическая устойчивость, когда р
елигия остается востребованной, так как предоставляет мощные механизмы совладания со стрессом, кризисами и экзистенциальными вопросами в условиях современного, фрагментированного мира.
3) Технологические инновации, когда ц
ифровые платформы преодолевают географические барьеры и способствуют «персонализации» веры, позволяя людям формировать свой религиозный опыт в соответствии с личными потребностями. Этот процесс делает религию более доступной и гибкой.
4) Социополитическая перестройка, когда р
елигия возрождается как важный ресурс для формирования национальной идентичности и интеграции мигрантов. Кроме того, эволюция отношений между государством и религиозными объединениями от конфронтации к партнерству создает благоприятные условия для их публичной деятельности.
Таким образом, «парадокс» разрешается признанием того, что религиозное сознание не исчезает, а трансформируется, адаптируясь к новым вызовам и возможностям, предоставляемым глобализацией, миграцией и технологиями.
Анализ также показывает, что до сих пор остается неизученным долгосрочные последствия «цифровой религиозности», вносящий серьезный раскол между интегративной и дезинтегративной функциями религии, особенно в контексте межэтнических и межконфессиональных конфликтов, которые могут возникать в условиях глобальной миграции и социополитических трансформаций, что, конечно же, позволили получить еще более полное и детальное понимание роли религии в XXI в.
Глава
II
.
Наука и вера: философский диалог сквозь века
Исследование динамического взаимодействия науки, философии и духовного сознания показывает, что взаимоотношения между научной и философской мыслью и религиозными убеждениями никогда не сводились к простой дихотомии. Эта связь представляет собой динамичный, развивающийся и часто глубоко личный диалог, который на протяжении веков оказывал значительное влияние на формирование человеческого общества.
В данной главе мы исследуем это взаимодействие через призму деятельности ключевых мыслителей, каждый из которых по-своему способствовал развитию «религиозного сознания» (понимаемого как продвижение духовных убеждений и практик) или, наоборот, «антипропаганде» (критике или контрнарративу по отношению к устоявшимся религиозным доктринам). Анализ покажет, что эти процессы не являются простыми актами, а представляют собой сложные социальные явления, обусловленные историческим контекстом, интеллектуальными системами и технологическим прогрессом.
Для целей настоящего доклада определим ключевые термины: Теизм – вера в существование трансцендентного, личного Бога, который создал вселенную и взаимодействует с ней. Пантеизм – философская позиция, согласно которой Бог и природа, или вселенная, являются одним и тем же. Атеизм – отсутствие веры в существование божеств. «Религиозное сознание» – это процесс формирования, укрепления и распространения религиозных идей, убеждений и практик в обществе. «Антипропаганда» – это критика, деконструкция или предложение альтернативы традиционным религиозным доктринам и институтам.
Изучение влияния мыслителей, исповедующих теизм, пантеизм и атеизм, демонстрирует, как их индивидуальные интеллектуальные проекты становились катализаторами для более широких социальных изменений. Великий Ибн Сина (980–1037) во многом придерживался позиции атеизма, но в истории все же остается объединителем теистом-философом. Его роль в истории мысли заключалась не в конфронтации, а в создании всеобъемлющей, самосогласованной системы, которая успешно объединила философские и научные идеи поздней античности, в частности, аристотелевские и неоплатонические концепции, с исламской теологией.
Нами был издан двухтомник «Время и пространство Ибн Сино» (Ашимов И.А., 2016) в серии «Перекличка веков и тысячелетий». Книги изложены результаты исследования научного наследия Ибн Сины. Прослеживаются идейные истоки формирования его антропологических и медицинских воззрений. Показано коренное отличие медицинских воззрений Ибн Сины от современного утилитарного понимания предназначения медицины. В книге раскрывается философский аспект идеи Ибн Сины о психофизиологической и социальной сущности человека, а также выявляются особенности его этико-мистической доктрины сквозь призму идеи «совершенного человека».
В этой серии говорится о том, что в истории науки есть личности, которые меняют стратегию познания, стоят у истоков развития новых научных направлений, задают вектор формирования наук. Чтобы понять, что он успел сделать, каковы его достижения, наследия и вклад в научную сокровищницу цивилизации, нужно расстояние, пожалуй, в сотни, а в нашем случае даже тысячи лет. Исследуя его философские, антропологические и медицинские воззрения мы приходим к выводу о том, что он все же был атеистом, нежели теистом. Об этом мы писали в монографии «Религия / АнтиРелигия» (Ашимов И.А., 2022), вошедшую в серию «Сциентизм / АнтиСциентизм».











