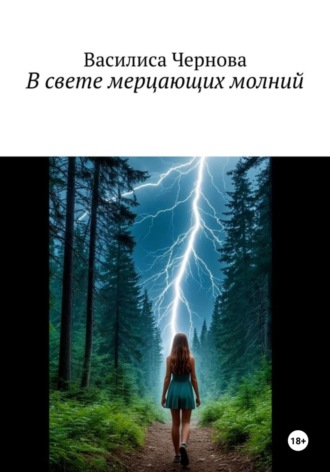
Полная версия
В свете мерцающих молний
Димка когда-то учился балету. Дворовые мальчишки открыто смеялись над таким не мальчишеским занятием, да и сам «балерун» совсем не был от него в восторге. Когда-то в молодости Димкина мама мечтала стать танцовщицей Большого театра, но мечтам не суждено было сбыться, и отдуваться за это чудовищное упущение Творца пришлось единственному маминому сыну. С первого по пятый класс нашей общей общеобразовательной школы Димка терпел этот произвол, но в двенадцатилетнем возрасте своим волевым решением завязал с балетом. К пятнадцати годам в этом высоком полноватом парне мало что напоминало о балетном прошлом, но во всех движениях скользила поразительная, воздушная легкость. Мама же, расстроенная не сложившейся карьерой сына, настояла, что он несмотря на это должен непременно остаться в мире прекрасного и вечного. Так Димка оказался в маленькой труппе маленькой театральной студии.
Таня всегда считалась самой красивой девчонкой наших трех смежных домов. Ее светлые чуть вьющиеся волосы сводили с ума всех дворовых хулиганов, и она вечно находила в своем почтовом ящике целую кучу любовных посланий, в которых, как правило, отсутствовал любой намек на отправителя. Долгими вечерами мы сидели на полу ее квартиры, и часами изучали корреспонденцию, пытаясь идентифицировать по почерку, стилю, или каким-либо другим характерным признакам авторов того или иного послания. С детства моя подруга мечтала стать актрисой, и блистать на голубых тогда еще экранах телевизоров. Поразительной чертой ее характера в те времена было полное отсутствие интереса к чему бы то ни было кроме авторской принадлежности получаемых ею писем. Прекрасной блондинке важно было пополнить список беззаветно влюбленных новой фамилией. Даже сами многочисленные поклонники были ей не интересны, и отвечать взаимностью кому-то из них она вовсе не собиралась. Ее заботило только количество получаемых посланий, и она искренне расстраивалась, когда в ящике вдруг по какой-то причине оказывалось меньше пылких любовных признаний, чем она ожидала.
Катька была совершенно миниатюрной. Крошечная, словно кукла, с огромными глазами и пухлыми губами. Шустрая и стремительная, она успевала везде, и иногда, казалось, находилась в двух местах одновременно. Я никогда за ней не успевала, и, наверное, поэтому почти с ней не общалась. Зато с ней отлично ладил Вовчик, обладающий навыками практически такой же вездесущести.
Вика тоже успевала многое. Она умудрялась заниматься в театральной студии, посещать кружок бальных танцев, да к тому же еще и быть круглой отличницей. От нее я старалась держаться подальше, как, в общем-то, и она от нашей неизменной троицы. Я считала ее занудой, она меня – хулиганкой. Столкновения наших диаметрально противоположных взглядов на жизнь не хотела ни она ни я. Хотя мне, на самом деле, было глубоко безразлично. Ведь это она меня боялась, а не наоборот.
Киря был самым спокойным и рассудительным человеком всей нашей театральной шайки. Он почти никогда не повышал голос, и не ввязывался в споры. Он был мировым судьей. В то время, когда две враждующие стороны с пеной у рта доказывали друг другу свою правоту, Киря молчал. Он, подобно легендарному библейскому Моисею, внимательно слушал. Знакомился с аргументами. Говорят, в споре рождается истина. Не верьте! Родить ее может только Кирилл. Ознакомившись с доводами оппонентов, он останавливал прения, призывал к тишине, и объявлял, кто прав, кто виноват. И так искусно и четко это у него получалось, что все становилось очевидным. Спор замолкал, полностью исчерпав себя, потому что спорить, зачастую, было уже не о чем.
Сашка навсегда и неразрывно связан в моем мозгу с самыми неожиданными ролями и персонажами еще с детсадовского возраста. Именно он был неизменным и самым отчаянным разведчиком во всех ожесточенных детских войнушках, именно он был самым лучшим отцом семейства, героически воспитывавший четверых детей включая нас с Женькой, и именно он за одним из садиковских игровых павильонов напрочь расшатал один из железных прутьев варварски ограничивающего свободу забора. В его спичечном коробке всегда жило больше всех божьих коровок, его макушку в бассейне украшала самая яркая резиновая шапочка, и еще он лепил из пластилина потрясающих животных. Мы были друзьями, пока неумолимая жизнь не развела семилетних друзей по разным районам и школам, чтобы по прошествии ровно такого же временного отрезка снова свести, только на этот раз на деревянных подмостках.
Шурик всегда был самым скромным из всех малолетних актеров. Как его занесло в нашу труппу и в театр вообще, очень долго оставалось для меня загадкой. Он мог беспрестанно краснеть во время репетиции, мог запинаться и забывать слова, у него вечно ходуном ходили руки и коленки, срывался голос, но когда я увидела его во время спектакля, просто растерялась. Он был великолепен, и я в очередной раз отдала должное профессионализму режиссера, который смог разглядеть так глубоко запрятанный под пышной периной стеснительности недюжинный талант этого пятнадцатилетнего голубоглазого шатена.
В студию попали только мы, остальные артистические знакомые и друзья остались в кружке. Мы были счастливы, еще даже не предполагая, что именно прохождение этого кастинга станет поворотной вехой в жизнях многих из нас, а мою жизнь и вовсе перевернет вверх тормашками. Мы, по крайней мере, младшие из нас, не думали о будущем. Не хотели о нем думать. Мы жили сегодняшним днем, веселились, и радовались жизни. Не могли даже предположить, что существовала вероятность того, что мы в новую труппу не попадем. Мы не думали, что мы могли проиграть. Мы верили в себя и в свои силы, мы верили в поддержку друзей, мы верили в то, что мы лучшие, и никто тогда не мог даже пошатнуть эту святую веру. Мы были героями в своих собственных глазах, в глазах мам, пап и бабушек, и шли вперед, ни на секунду не оглядываясь, и понятия не имели о том, что о чем-то можно жалеть, или что-то может не выйти.
Именно такими впервые увидела нас она – наш режиссер, Ирина Александровна Беляева.
Почти весь сентябрь режиссер нас проверяла. Мы учили стихи, и просто читали их со сцены. Хотя на самом деле было очень и очень непросто. Раньше с нами ничего подобного не происходило. Обычно во время репетиций вся труппа находилась на сцене, и, занятые каждый своим делом, никто не обращал внимания на того, кто рядом. Допустив ошибку, можно было не опасаться, что ее заметят. А на самих спектаклях, когда все уже отрепетировано и уяснено, бояться нечего. Да и смотрят на тебя только зрители – незнакомые люди. А тут – глаза твоих друзей, которые сидят в зале, оценивают тебя, которые видят твое волнение и страх, которые не помогут тебе. Ты один. Совсем один, а из зловещего полумрака огромного портера на тебя глядят пугающих двенадцать пар глаз. И самая страшная, тринадцатая пара, которая изучает тебя с головы до ног, обжигая холодным оценивающим взглядом, и воспринимающие рецепторы неумолимо передают в расчетливый мозг каждую твою ошибку, каждую неточность, каждую запинку или приступ волнения. И мозг составляет картину, на которой проступают все твои возможности, и, что самое страшное, все твои страхи и промахи. Осознание этого давит на психику и не дает сосредоточиться, не дает унять дрожь в руках и ногах, не дает прочесть стихотворение чисто и без запинок, не дает свободно вздохнуть.
Не знаю, что бы было со мной, если бы не Женька с Вовчиком. Они подбадривали меня, как могли. И я привыкла к оценивающим взглядам. Выучив несколько десятков стихотворений я, наконец, научилась успокаивать себя Вовкиными словами, или горько вздыхать «будь, что будет», как учил Женька.
Но все же одна странность не давала мне покоя. Я долго пыталась понять, почему для меня так страшен провал именно перед знакомыми людьми, перед друзьями, почему я не боюсь смотреть в глаза тем, кого я не знаю. Я боялась тех, кто будет тыкать носом в старые ошибки, напоминать о промахах, я боялась близких, а не далеких. Чужого человека могла больше не увидеть, свою смотрели на меня каждый день. Они оглядывали меня каменными глазами, только двое одобрительно кивали, чем и внушили мне уверенность. Но углубляться в подоплеки и истоки моей странной боязни предательства самых близких друзей времени не оставалось. Ирина Александровна приняла решение устроить вечер, посвященный творчеству Бориса Пастернака, на который, как оказалось позже, были приглашены высшие чины городской администрации с семьями. Известность и популярность новой студийной руководительницы вообще играла не последнюю роль во всех наших начинаниях. Отказаться от приглашения некогда известной актрисы не мог никто. Нам оставалось только готовиться, за что, конечно, тоже полностью отвечала она.
Каждому из нас предстояло выбрать по два стихотворения Пастернака, которые нам больше всего нравятся, и мы с Женькой и Вовчиком, раздобыв в школьной библиотеке сборник стихов, с головой погрузились в великую поэзию.
С творчеством Пастернака я тогда не была знакома абсолютно. Слышала, естественно, фразу «Февраль. Достать чернил и плакать!», и что-то про свечу, которая горела, но не имела представления, чьему перу все это принадлежит. Оказалось, его. Стихотворение про февраль показалось мне слишком уж мрачным, про свечу чересчур банальным, а про вьюги, первый снег и вокзал чрезмерно затянутыми. Потратив несколько вечеров на один только выбор стихотворений, мы потратили еще больше на их запоминание. Осталось главное – продемонстрировать результат.
К нужному дню стихотворения были выучены, кроме того, прочтение их было, как нам казалось, идеально отточено. Но нас ждало глубокое, обидное разочарование. Прослушав выступления тринадцати человек, режиссер, не говорившая до этого ни слова, коротко, но содержательно вымолвила: «Отвратительно». И до неузнаваемости изменила репертуар каждого из нас. Самым близким к первоначальному выбору стал список произведений, которые предстояло озвучить Женьке. Ему не только оставили оба его стихотворения, но более того, разрешили прочитать еще одно, при виде которого Женьке стало плохо. Огромный «Марбург» нужно было выучить за один вечер. Как распределились другие стихи между остальными, я уследить не успела. Мне предстояло ознакомиться с обоими частями внушительнейшей «Магдалины».
Теперь репетиции проходили совсем по-другому. Каждому на общение с режиссером выделялись по два часа. Ирина давала указания, рекомендации, расставляла акценты и помогала подобрать настроение, которое необходимо было передать слушателям посредством данного произведения. Готовиться предстояло самостоятельно, но в любой день можно было прийти и задать вопросы, если таковые появлялись. Такого в кружке тоже никогда не происходило, и мне было страшно оставаться один на один с «железной леди» Ириной. Я никак не могла привыкнуть к ее жесткой дисциплине, и к тому, что у нее начисто отсутствовало терпение. Если кто-то долго не мог чего-то понять, она запросто могла накричать, стукнуть кулаком по любой находящейся в непосредственной близости поверхности, топнуть ногой… Все это проделывалось с такой злостью, что голова непроизвольно вжималась в плечи, и хотелось бежать подальше от нее и ее грозного колючего взгляда.
Вечер, посвященный творчеству Пастернака, прошел более чем удачно. Режиссер потрудилась на славу – все справились со своими стихами почти идеально. Потом прошли вечера, посвященные Александру Блоку (в котором я читала всего одно стихотворение, зато Женька блистал как никогда) и Марине Цветаевой. Нам теперь нужно было намного меньше времени, чтобы уловить интонации прочтения стихов, к тому же Ирина стала параллельно заниматься с нами нашими голосами, которые необходимо было если не поставить, то заставить звучать громче, уж точно. Мы сотни раз повторяли всевозможные распевки и скороговорки, тренировали связки и дикцию. И все это время режиссер присматривалась, примеривалась, наблюдала за успехами и промахами. Наблюдала за нами.
А потом произошло чудо! Ирина Александровна решилась, наконец, поставить наш первый спектакль. Я уже мысленно готовилась к кастингам и пробам, но оказалось, что режиссер присматривалась не зря. Герои были поделены заранее, а роли закреплены за каждым из нас. Ирина объявила, что ставит сразу два спектакля, которые будут идти друг за другом. Оба материала объединяло то, что вышли они из-под пера одной и той же писательницы – Агаты Кристи. Главным будет спектакль по пьесе «Мышеловка», а прицепиком станет постановка повести «Коттедж «Соловей». Ирина положила на край сцены список с действующими лицами и фамилиями. Все вскочили с кресел и бросились вперед, подгоняемые любопытством. Я же особо не спешила. Ожидала увидеть напротив своей фамилии что-нибудь вроде «третья княжна», «четвертый трубочист», или «певец из хора, второй ряд, пятый слева». А то и того лучше – одну только фразу. Что-то типа «Карета у подъезда» или «Кушать подано».
– Лерка, смотри! – Закричал мне Женька, который успел в каком-то зверином прыжке первым подлететь к лежащему на столе списку, и внимательно с ним ознакомиться. – Мы с тобой!
И я посмотрела. Спектакль «Коттедж «Соловей» включал всего пять действующих лиц. Женщина и четверо мужчин. «Алекс Мартин – Валерия Калинина; Джеральд Мартин – Евгений Пронин; Дик Виндифорд – Кирилл Вениаминов; Садовник – Павел Потапов; Полицейский – Павел Потапов». Киря с Павликом были задействованы почему-то в обоих постановках. Только потом я поняла, почему. Этим актерам в обоих пьесах достались небольшие роли. Как потом оказалось, идеально им подошедшие.
Мы получили сценарии, и должны были дома подробно с ними ознакомиться. Женька с Вовкой до сих пор копались в рюкзаках, пытаясь запихнуть в них папки с нашим «священным писанием» – новой пьесой, остальные уже разъехались, а я, наконец, разглядела, что в доставшейся мне зеленой папке вовсе не пьеса – самая настоящая повесть. Пока Ирина Александровна не ушла, я спросила, каким образом мы сыграем прозу.
– Скоро будет готов сценарный вариант. – Спокойно ответила она. – А пока у меня для вас и времени не будет из-за «Мышеловки». Думаю, недели за две Сашка справится.
Она улыбнулась, и быстро добавила:
– Сашка – мой знакомый сценарист. Он только начал работу над «Коттеджем». Адаптирует его для сцены.
– Значит, у нас не будет репетиций целых две недели? – Задала я еще один вопрос.
– Размечталась! – Хмыкнула режиссер. – Шесть дней. Потом начнем разводить первые действия, а там и концовка подоспеет.
Глава 2
Краткий экскурс в систему Станиславского
Неделя казалась вечностью. Целых 7 дней мы с Женькой, уже привыкшие проводить основную массу времени в студии, мучались от отсутствия этого привычного атрибута нашей жизни. Самым неприятным для нас было то, что впервые за многие годы мы оказались разлучены с Вовчиком. Пока мы с Женькой отдыхали, он продолжал ходить на репетиции. Он играл одну из центральных ролей в «Мышеловке». Зато мне удалось подтянуть всем троим литературу, написав сразу три сочинения, и физику благодаря моему однокласснику Юрке. Целый день он потратил на то, чтобы объяснить мне способы решения сложных физических задач. Все остальное время мы – пока не выпал снег – катались на роликах и велосипедах, участвовали в шумных посиделках с общими и необщими друзьями и ходили в кино.
А потом снова начались репетиции. Но к привычной театральной общественности мы так и не присоединились. В креслах пустого партера сидели всего четыре человека. Я, Женька, Киря и Павлик.
– Значит так. – Громко заговорила Ирина. – Все несерьезное закончилось. Теперь я буду требовать от вас постоянного предельного внимания. Я хочу, чтобы вы ловили и запоминали каждое мое слово. На записи нет времени, поэтому приготовьтесь впитывать столько, сколько не впитывали еще никогда.
Мы растерянно переглянулись, еще не понимая, к чему клонит режиссер.
– Краткий экскурс в систему Станиславского. – Объявила она. – Говорю вам сразу. Запомните: в театре первичен не текст, а действие. Текст без действия – это драматургия. Когда вы смотрите спектакль, отбросьте слова, и это будет театр. Поэтому мы с вами будем заниматься исключительно действием, и ничем иным. Запомнили? Действие – основа сценического искусства, актерского искусства. Само слово «драма», если кто не знает, переводится с греческого как «совершающееся действие». Именно этому мы и будем учиться. Мы будем жить на сцене. Мы с вами будем четко отрабатывать линию физических действий, которые вы будете максимально точно выполнять. Это был первый урок. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский, «Да не будет слово твое пусто и молчание твое бессловесно». Идем дальше.
Она протянула каждому из нас тонкую стопку белых листов, исписанных черными строчками.
– Это два первых действия нашей пьесы. К послезавтрашнему дню прошу выучить текст наизусть.
Мне казалось, режиссер стала еще строже, еще холоднее. Она резко чеканила рубленые фразы металлическим голосом и строго хмурила брови. Я жадно вслушивалась в каждое ее слово, в каждую интонацию, боялась что-то пропустить или не запомнить. Мои коллеги по спектаклю тоже заметно трусили. Даже Женька, известный балагур, не рисковал произнести ни слова. Все боялись, что может разразиться настоящая гроза, и тогда никому из нас не будет пощады. Мы не смели ослушаться. На следующий день с Женькой даже в школу не пошли – текст учили. Однако на следующем занятии знание текста нам не понадобилось. В этот день в зале сидели все члены труппы, разделенные ныне двумя постановками.
– Вы должны уметь оживить персонаж, – говорила режиссер. – Сделать его личностью, передать все тончайшие оттенки и всю глубину его души. Вот вам какой человек интересен? Только живой, неординарный и самобытный, согласитесь. Вот и ваш герой – именно герой, уже не персонаж, – привлечет к себе внимание, захватит зрителя только если будет живым. Я уверена, вам покажется, что это трудно. Да. Вы будете правы. Но это обязательное условие. Или вы живете на сцене, или пытаете актерского счастья с другим режиссером. Задача актера – воспитывать зрителя, давать ему возможность испытать что-то новое через сопереживание вашему герою. Вы должны оставить след. Весомый, нестираемый годами след в душах людей. Не играйте нутром, не выжимайте из себя того, чего нет. Подводите себя к искренней вере в то, что происходит. Я намеренно не буду давать вам играть на штампах. Я не признаю голой техники и пустого ремесла. Вы должны чувствовать, переживать. Кривляться и передразнивать может даже обезьяна. Вы же избегайте подделок. Не обманывайте зрителя. Поверьте, слишком много актеров уже пытались это сделать. Зрительно публика, может быть, и не увидит подвоха, но обязательно его почувствует. Запомните: если вы поднялись на сцену – говорите. Если заговорили – вложите в слова душу. Только тогда эти слова западут в души другим. Мне не нужно от вас искусство, манерность, показуха. Мне нужна жизнь.
– Так просто? – Переспросил Павлик. – Просто жить? А я думал, актерство – сложный процесс уничтожения своего собственного «я» ради того, чтоб стать кем-то другим…
– Ох, дорогой мой, тебе бы научиться просто выходить на сцену без тряски в коленях! Твоя задача как актера, естественно, создание образа. Но что еще важнее, переосознание какого-то произведения, обнажение скрытого между строк подтекста, а часто и создание своего. Ты должен стопроцентно понимать своего героя, находить в нем частичку себя, а если ее нет, то обязательно вкладывать. Только от тебя зависит, будет ли жаль зрителю того или иного человека, вызовет ли какое-то его действие резонанс, и простят ли его за какие-то промахи и ошибки. В твоей власти отношение к твоему герою. В твоей власти сделать сварливую старуху из «Му-Му» несчастной женщиной, страдающей, скажем, мигренью, в приступе, в сердцах воскликнувшей, что собаку нужно утопить, а Герасима – бросившемся выполнить это отданное в сердцах приказание бессердечным мужланом. В вашей власти сделать Воланда справедливым возмездием, или сумасшедшим садистом, а может, и скучающим мечтателем… а Германа, к примеру, впечатлительным юнцом или сумасшедшим психопатом. Вы должны полностью сродниться со своим героем, вжиться в него, стать его совестью, дать ему свой ход мыслей, свои принципы и устои, свою философию. Снаружи, в своих словах, в драматургической части спектакля герой может быть кем угодно, но внутренне он будет обладать теми качествами, которыми вы его наделите. И эти качества будут обнажаться в каждом вашем жесте, в каждом взгляде, в каждой интонации. Вы только подумайте о том, что он за человек, и вы сами не заметите, как начнете постепенно становиться им. Вам будет сложно не играть, нет. Сложна будет сама мыслительная работа по созданию характера, внутреннего наполнения внешнего образа. Но к этому мы придем позже. Начать нужно с другого.
– С чего же? – Не вытерпела Ольга, но Ирина проигнорировала ее вопрос. Она продолжала.
– Многие из вас будут бояться сцены, стесняться ее, все время терять ощущение реальной жизни. Никто не может отделаться от мысли, что за ним наблюдают. Это будет нам мешать. От этого мы будем избавляться. Мы будем учиться ходить, сидеть, говорить, держать в руках ложку. С этого дня вы – новорожденные. Вы не умеете ничего. И будете учиться. Жить. Верить. В слова партнеров, в их радость, в их горе, в их искренность или в их ложь, в ситуацию в целом, во все свои переживания. Это основа театра – убедить зрителя, что он подсмотрел в замочную скважину чужую жизнь. Станиславский смотрел на актеров как зритель, и всегда говорил, в чем они неубедительны. Ты спрашивала, с чего мы начнем? А вот с чего!
Она жестом приказала нам подняться с сидений первого ряда партера, и повела за собой на сцену. На подмостках уже стоял большой стол, повернутый таким образом, чтобы режиссер, сидя во главе его, видела перед собой зрительный зал. Ирана предложила нам сесть за стол лицами друг к другу, и просто поговорить. Как ни странно, у нас ничего не получилось. Даже Женька терялся, и сосредоточенно молчал. Павлик смотрел на режиссера так подозрительно, словно ожидал какого-то подвоха, Аленка скрестила руки и скукожилась, словно защищаясь. Я судорожно стучала пяткой правой ноги по полу, в какой-то необъяснимой панике пытаясь придумать, о чем можно поговорить, чтобы снискать одобрение режиссера. Мысли путались, сбивались, перескакивали. Мы молчали, не могли подобрать слов, не знали, чего ждет от нас Беляева, и в чем конкретно заключается это испытание, с которого она решила начать, и чем дольше и напряженнее было молчание, тем сильнее наваливалось на нас ощущение, что нас поглощает огромная черная дыра. Клыкастая раскрытая пасть пустого зрительного зала высасывала из нас все слова и мысли. Одно дело – читать со сцены стихи, много раз отрепетированные и выученные наизусть. Или скакать по сцене, когда свет в зрительном зале включен, как было на репетициях кружка. Другое – вот так глупо сидеть за столом и искать тему для разговора, когда сбоку от тебя зияет черная пропасть.
Ирина Александровна лукаво улыбнулась.
– Если я скажу: «Забудьте о зрительном зале», ничего ведь не произойдет, так?
Мы растерянно переглянулись, а режиссер поднялась со стула, и неторопливо раскрыла стоящую перед ней сумочку, пытаясь что-то в ней отыскать. Наверное, какую-то книгу – подумала я. Мне доводилось слышать, что автор системы, которую мы пытались постичь, написал не один том о работе актера и режиссера.
– Тогда я скажу так… – Начала Ирина, но договорить не успела: сумка выскользнула из ее рук. На пол полетел блокнот, ручка, деньги, какие-то заколки, косметика. Не сговариваясь, и не размышляя, мы вскочили с мест, и ринулись собирать оказавшиеся на полу вещи. Это было нашим спасением от тишины и неловкости, и все до единого хотели спастись.
Режиссер не двинулась с места. Она смотрела на нас все с той же лукавой улыбкой.
– Теперь вы увидели, что такое театр? – Спросила она вдруг почти насмешливо, и каждый из нас вдруг осознал, что поглощенный нехитрым действием совершенно забыл о страшной черной пасти зрительного зала. Мы обескуражено замерли, а она произнесла:
– Вот это и есть театр. Театр – молчаливое действие, в котором мы тонем с головой.
Теперь репетиции проходили только за этим столом. Ход режиссера оказался гениальным. Мы, некогда боявшиеся сцены, привыкали к ней, сами того не замечая.
Мы читали пьесу, обсуждали характеры своих героев, а в какой-то момент Ирина Александровна вдруг как бы невзначай произносила: «Это могло бы стать отличной пьесой – обсуждение постановки». Все, как один тут же оборачивались в зал, представляя, что было бы, если бы на нас в этот момент были устремлены сотни глаз. Сначала мы каждый раз автоматически поправляли осанку, становились сдержаннее, но в какой-то момент перестали даже поворачиваться к зрительским креслам. Нам стало безразлично, как мы смотрелись. Мы больше не делали попыток выглядеть красивее, или поворачиваться к воображаемым наблюдателям более выгодным ракурсом. Мы ходили по сцене, забыв, что у этой импровизированной комнаты всего три стены. За неделю мы перестали бояться чужих глаз, темноты подмостков. Мы оставались естественными. И это была ее большая победа над нашими страхами. Мы избавились от них так легко, что даже не заметили этого.

