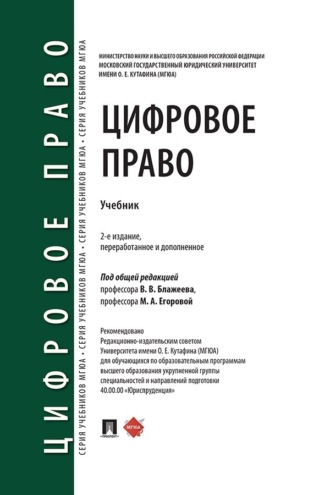
Полная версия
Цифровое право. Учебник
Например, некоторые нормативные правовые акты ЕС нацелены на предприятия, которые предлагают услуги гражданам или предприятиям ЕС независимо от того, где они находятся. Кроме того, благодаря феномену, известному как «брюссельский эффект»[110], эти правила могут влиять на практику технологического бизнеса и национальное законодательство во всем мире.
ЕС является активным участником развития глобального цифрового сотрудничества. Различные международные организации разрабатывают, например, инструменты, позволяющие гражданам и бизнесу по всему миру пользоваться преимуществами искусственного интеллекта и ограничить его негативные последствия. В этих глобальных переговорах усилия ЕС позиционируются как направленные на соблюдение различных фундаментальных прав и свобод, а также совместимость с нормативными правовыми актами ЕС.
Если говорить о подходе Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) к правовым основам цифровой трансформации, то стоит отметить Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года», согласно которому Высший Евразийский экономический совет утвердил Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. Цели реализации цифровой повестки заключаются в актуализации сложившихся механизмов интеграционного сотрудничества в рамках Союза с учетом глобальных вызовов цифровой трансформации в обеспечении качественного и устойчивого экономического роста государств-членов, в том числе для ускоренного перехода экономик на новый технологический уклад, формирования новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. Реализация цифровой повестки по замыслу государств – членов ЕАЭС позволит синхронизировать цифровые трансформации и сформировать условия для развития отраслей будущего в государствах-членах. В документе отмечается, что информационное обеспечение интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование Союза, определено ст. 23 Договора и Протоколом об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору). В соответствии с Договором государства-члены проводят согласованную политику в области информатизации и информационных технологий. При этом реализация цифровой повестки не ограничивается применением информационно-коммуникационных технологий, а предполагает использование новых бизнес-процессов, цифровых моделей и создание цифровых активов.
Кроме того, в конце 2018 г. Совет Евразийской Экономической Комиссии рекомендовал государствам-членам, помимо Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г., учитывать при осуществлении «цифрового перехода» Концепцию создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и цифровой трансформации промышленности государств – членов Союза[111].
В науке также отмечается, что модель цифровой интеграции, основные направления Цифровой повестки ЕАЭС, в том числе обозначенная концепция, разрабатывались в основном российскими специалистами с использованием опыта различных интеграционных и межгосударственных объединений, в том числе Европейского союза, Ассоциации государств юго-восточной Азии, а также стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а основная позиция при этом заключалась в том, что, поскольку «суверенная» цифровая трансформация каждого государства – члена Союза объективна и неизбежна, то обеспечение функциональной совместимости (интероперабельности) национальных цифровых повесток в рамках общей интеграционной Цифровой повестки может дать синергетический эффект и позволит добиться существенного ускорения темпов цифрового перехода и роста объемов экономик[112]. К важнейшим аспектам Цифровой повестки ЕАЭС в обозначенном контексте относятся: создание электронных систем учета (прослеживаемости) движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов в ЕАЭС; расширение электронной торговли между государствами – членами Союза; организация цифровых транспортных коридоров ЕАЭС; развитие цифровой промышленной кооперации между государствами – членами Союза; цифровая трансформация системы технического регулирования ЕАЭС; создание системы «регулятивных песочниц» ЕАЭС – экспериментальных режимов для разработки и использования оптимальных правовых решений в новых сферах. Каждое из обозначенных направлений цифровой интеграции находится на разном уровне реализации, что объясняется тем обстоятельством, что при цифровой трансформации интеграционных процессов ЕАЭС за основу был взят проект ускоренной цифровой интеграции. При этом осуществление ускоренной цифровой интеграции было затруднено рядом обстоятельств, включая пандемию Covid-19, разный уровень технологической обеспеченности государств – членов ЕАЭС.
В науке также высказывается мнение о критической важности для результативности цифрового перехода ЕАЭС работы по совершенствованию аналоговых основ цифровой трансформации[113]. Здесь речь идет о достижении подлинного политического консенсуса, обеспечении вовлеченности руководства государств в процессы управления преобразованиями, выработке эффективных механизмов управления проектом цифровой интеграции. С обозначенной позицией стоит согласиться уже потому, что темпы цифровой интеграции в рамках ЕАЭС являются невысокими при довольно большом потенциале евразийской интеграции и евразийского цифрового пространства в рамках ЕАЭС.
Опыт США представляет интерес с точки зрения развития правовых основ цифровой трансформации в пандемийный период. Так, во время пандемии Covid-19 в США наблюдалось ускорение цифровой трансформации. Компаниям приходилось полагаться на облачные технологии и возможность подключения для удаленной работы, а новые технологии, такие как технологии расширенной реальности (XR), управление идентификацией и блокчейн, обеспечивали значительную эффективность бизнес-сообществу[114]. Однако государственные цифровые услуги сильно отставали от частного сектора: от выполнения обязательств по развертыванию вакцин до управления цепочками поставок и распределения финансовой помощи малому бизнесу и испытывающим трудности домохозяйствам – провалы правительства во время пандемии продемонстрировали, как устаревшие государственные информационные технологии влияют как на способность государственного сектора реагировать на кризис, так и на возможности населения получать жизненно важную помощь. Реализуемые стратегии цифровой трансформации после пандемии направлены на реагирование на меняющиеся проблемы, оптимизацию ресурсов, повышение производительности и эффективности, использование преимуществ технологических возможностей и создание услуг с более высокой добавленной стоимостью для участников с упором на больший доступ, доверие и качество.
При этом стоит отметить, что Комплексная стратегия цифрового правительства, направленная на предоставление более качественных цифровых услуг американскому народу, была запущена еще 23.05.2012. Стратегия основана на нескольких инициативах и актах, принятых в 2011 г., включая Указ Президента США № 13571 «Оптимизация предоставления услуг и улучшение обслуживания клиентов» и Указ Президента США № 13576 «Эффективное, результативное и подотчетное правительство». Правительственным учреждениям США предлагается «построить цифровое правительство XXI-го века, которое будет предоставлять более качественные цифровые услуги американскому народу». Один из компонентов цифровой стратегии – открытые данные – получил дальнейшее развитие в Меморандуме М-13-13 «Политика открытых данных – управление информацией как активом». Политика открытых данных преследует цели повышения операционной эффективности при сокращении затрат, улучшения услуг и поддержки потребностей миссий, защиты личной информации и расширения доступа общественности к ценной правительственной информации. Еще одним компонентом цифровой стратегии является достижение эффективности, прозрачности и инноваций посредством многоразового программного обеспечения с открытым исходным кодом, как описано в Меморандуме M-16-21 «Федеральная политика в отношении исходного кода» (FSCP)[115].
Отдельно стоит отметить усилия США по защите прав в сети Интернет. США в определенном смысле продвинулись в процессе защиты прав в сети Интернет прежде всего с принятием Закона США об авторском праве в цифровую эпоху (1998) (Digital MillenniumCopyright Act), а также серии нормативных актов в сфере закрепления цифровых прав. Анализ основных правовых норм указывает на то, что на пользователей, покупающих товары в сети Интернет, распространяются общие требования о защите прав потребителей, что и на обычных покупателей в магазине[116].
Товары, приобретенные через Интернет, можно вернуть, обменять, потребовать за них деньги обратно из-за низкого качества, несоответствия описанию и т. д. Более того, для защиты персональных данных пользователей используются зашифрованные каналы для передачи платежных данных, а также пользователи могут пройти двухфакторную авторизацию для подтверждения платежных поручений и т. д. Предусмотрены и правовые механизмы для защиты персональных данных. Если на интернет-ресурсе осуществляется сбор и хранение данных, то его владелец обязан уведомить нового пользователя об этом, предоставить в любое время возможность как запросить хранящиеся данные и совершаемые с ними действия, так и удалить их по требованию пользователя. Законом об электронном правительстве предусматривается возможность получения государственных услуг в электронном виде. Для этого гражданину США достаточно иметь идентификатор и доступ в Интернет[117].
При этом именно защиту цифровых прав в США можно назвать наиболее жесткой, если сравнивать опыт США с опытом европейских государств, так как США имеет больше возможностей для блокировки интернет-ресурсов. Так, например, указами Президента США (Д. Трампа) на территории США было заблокировано несколько приложений китайских компаний лишь на том формальном основании, что китайские организации собирают и хранят данные об американских пользователях[118]. Блокировка указанных приложений подразумевает их удаление из магазина приложений, а также запрет на рассылку обновлений пользователям, у которых такие приложения уже установлены на мобильном устройстве.
Значимым для целей анализа зарубежных подходов к цифровому праву представляется и опыт КНР как государства, активно развивающего и осваивающего цифровые технологии и цифровое пространство, а также предлагающего миру новейшие цифровые решения при самобытном правовом регулировании отношений, реализуемых в цифровом пространстве, осуществляемых с использованием цифровых технологий.
С тех пор как Китай был полностью подключен к Интернету в 1994 г., он взял на себя обязательство управлять киберпространством на основе нормативного регулирования, гарантируя, что Интернет будет развиваться в установленных законодательством рамках. В новую эпоху, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, Китай сделал основанное на требованиях законодательства управление киберпространством важной частью общей стратегии верховенства прав и стремления к наращиванию своей активной роли в киберпространстве[119].
Китай усилил управление киберпространством, разработав комплексную систему законов и правил, высокоэффективную систему правоприменения, строгую систему надзора и удобную для пользователей систему поддержки. Во взаимодействии правительства, бизнеса, общественных организаций и пользователей сети Интернет цифровое законодательство, правоохранительная и судебная деятельность стали развиваться в Китае наряду с программами по распространению юридических знаний через Интернет, пропагандой соблюдения нормативных требований, распространяющихся на цифровое пространство, и повышением осведомленности общественности о соответствующем законодательстве. Был воспринят новаторский подход к управлению киберпространством, соответствующий передовому международному опыту. Обладая более сильным внутренним потенциалом в области правового регулирования общественных отношений в сети Интернет, Китай внес идеи и реализовал решения, распространяющиеся и на глобальное управление в сети Интернет.
Законодательство в сфере цифрового права в Китае прошло долгий и постепенный процесс становления и развития, который можно условно разделить на три этапа. Первый этап длился с 1994 по 1999 г., когда Китай подключился к Интернету. Число интернет-пользователей и устройств неуклонно росло. Законодательство на этом этапе было сосредоточено на безопасности сетевой инфраструктуры, в частности безопасности компьютерных систем и сетевой безопасности. Второй этап длился с 2000 по 2011 г., когда персональные компьютеры (ПК) служили основным терминалом для подключения к Интернету. Законодательство на этом этапе сместилось в сторону интернет-услуг и управления контентом. На третьем этапе, начавшемся в 2012 г., доминирует мобильный Интернет. В настоящее время законодательство постепенно сосредотачивается на комплексном управлении киберпространством, охватывая такие области, как сетевые информационные услуги, развитие информационных технологий и кибербезопасность.
За прошедшие годы Китай принял более 140 законов, регулирующих различные общественные отношения в цифровом пространстве, сформировав фундамент «киберзаконодательства» на основе Конституции, подкрепленный законами, административными постановлениями, ведомственными правилами, местными постановлениями и местными административными правилами, одобренными традиционным законодательством и подкрепленными специализированными цифровыми НПА, регулирующими онлайн-контент и управление им, кибербезопасность, информационные технологии и другие элементы цифрового пространства[120]. Эта система законов об управлении киберпространством обеспечивает надежную институциональную гарантию активной деятельности Китая в цифровом пространстве.
В сфере цифрового права в КНР, таким образом, действует большое количество различных законов, подзаконных актов, прецедентов. В стране функционирует развитая система законодательных нормативных правовых актов, среди которых можно выделить Закон КНР об электронной торговле, Закон об электронной подписи, Закон о кибербезопасности, Закон о безопасности КНР и Закон о защите личной информации, Закон о безопасности данных, представляющие собой законодательную основу цифрового права КНР, при этом особое значение в регулировании общественных отношений, реализуемых в цифровой форме, принадлежит и Конституции КНР, в законодательстве в контексте цифрового права подчеркивается ключевое значение национальной безопасности[121]. Так, в абз. 2 ст. 12 Закона КНР о кибербезопасности закреплено, что «любое лицо и организация, использующие сети КНР, обязаны соблюдать Конституцию и законы, соблюдать общественный порядок и уважать общественную мораль; они не должны ставить под угрозу кибербезопасность и не должны использовать Интернет для участия в деятельности, угрожающей национальной безопасности, национальной чести и национальным интересам; они не должны подстрекать к подрыву национального суверенитета, <…> распространять ложную информацию с целью подрыва экономического или общественного порядка или информацию, которая нарушает репутацию, неприкосновенность частной жизни, интеллектуальную собственность или другие законные права и интересы других лиц, и другие подобные действия»[122].
Еще в 1997 г. Китай принял Меры по обеспечению безопасности международных компьютерных информационных сетей, чтобы обеспечить правовую защиту свободы и конфиденциальности переписки, закрепленных в Конституции КНР. В 2000 г. было принято Положение о телекоммуникациях, предусматривающее, что свобода граждан пользоваться услугами связи и конфиденциальность их переписки охраняются законом. В 2016 г. было пересмотрено Положение об администрировании радиосвязи, еще больше усилена защита конфиденциальности передачи данных через радиосвязь. Китай выстроил юридическую систему защиты прав и интересов субъектов персональных данных. В 2020 г. на III сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва был принят первый Гражданский кодекс (вступил в силу в 2021 г.), который содержит системные положения о защите персональных данных в гражданских делах на основе предыдущих правовых положений. В 2009 и 2015 гг. Поправка VII и Поправка IX к Уголовному кодексу ввели положения о преступлении, заключающемся в посягательстве на персональные данные граждан, тем самым усилив защиту таких данных в уголовном законе. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей еще в 2012 г. принял Решение об усилении защиты информации в Интернете, четко заявив о необходимости защиты электронной информации, которая может раскрыть личность и конфиденциальность гражданина. Закон о кибербезопасности, принятый в 2016 г., еще больше усовершенствовал правила защиты личной информации. А Закон о защите персональных данных, обнародованный в 2021 г., представляет собой общее усиление мер по защите персональных данных. Он определил и уточнил принципы защиты персональных данных и правила их обработки, наделил субъектов персональных данных рядом прав, установил обязанности операторов персональных данных и др. В 2018 г. был обнародован Закон об электронной коммерции, согласно которому продукты или услуги поставщиков электронной коммерции не должны подрывать личную безопасность или безопасность собственности. Гражданский кодекс КНР при этом содержит четкие положения о юридической ответственности тех, кто посягает на имущественные права и интересы других лиц посредством Интернета. В 2022 г. в Китае был принял Закон о борьбе с телекоммуникационным и онлайн-мошенничеством, обеспечивающий серьезные правовые меры борьбы с преступностью и защищающий права и интересы частной собственности.
Обращают на себя отдельное внимание и инфраструктурные цифровые решения, реализованные в КНР. Будучи огромным по территории и численности населения государством, Китай имеет очень сложную систему организации судопроизводства. По всей стране суды, руководствуясь рядом национальных стратегий и политик, активно осваивают режим умного правосудия, внедряя ряд цифровых технологий, в том числе построенных на основе искусственного интеллекта[123]. Так, 01.03.2022 Верховный народный суд КНР преобразовал и модернизировал первоначальную систему China Mobile Micro Court в онлайн-сервис Народного суда. Новый сервис представляет собой мини-приложение, позволяющее пользователям подать иск, используя приложение WeChat. В 2022 г. через мобильную версию онлайн-сервиса Народного суда было подано 10 718 000 исков. Онлайн-сервис Народного суда объединяет и консолидирует общенациональные функции общей судебной системы, такие как посредничество, подача исков, обеспечение доказательств, результаты юридических проверок и т. д., помогая направлять запросы и решать юридические, посреднические и другие вопросы в судебных инстанциях по всей стране. Если говорить о местном уровне, то, например, в судах Шанхая имеется полностью налаженная онлайн-система подачи исков. При подключении к сети Интернет граждане и юридические лица могут иметь доступ к судебным услугам в любом месте и в любое время через веб-сайт, официальную учетную запись WeChat и мини-приложения, которые значительно сокращают прежние неудобства, связанные с длительными поездками и длинными очередями на подачу и регистрацию исковых заявлений. Более того, «асинхронное разбирательство» – новый термин, введенный в 2022 г., становится все более популярным и существенно меняет прежний имидж судебных заседаний. Если стороны и судья сопровождают заседание одновременно, но в разных точках пространства, его можно назвать модельным онлайн-процессом, то есть онлайн-судебным заседанием[124].
Таким образом, китайский подход к цифровому праву представляет собой комплекс законодательных мер и подзаконных актов, а также актов правоприменительной практики, направленных на обеспечение защиты прав и интересов граждан и юридических лиц в цифровом пространстве. Китай сделал управление киберпространством важной частью общей стратегии верховенства прав, заложив комплексную правовую основу для защиты прав в цифровой среде.
Резюмируя проведенный анализ, можно сделать обобщающий вывод о том, что до сих пор не существует единого универсального стратегического плана и общих правовых основ цифровой трансформации. Правовые режимы современных процессов цифровой трансформации должны быть адаптированы к конкретным условиям каждого отдельного государства, включая его политический, социальный и экономический контекст, его лидерские позиции в той или иной области, культуру, характер экосистемы, повестку устойчивого развития и другие факторы. При этой эффективная цифровая трансформация в условиях глобализации, даже несмотря на современные вызовы, невозможна без ориентации на эффективные интеграционные и унификационные процессы.
Вопросы для обсуждения
1. Какие в настоящее время технологические вызовы стоят перед миром? Как их можно решить с помощью права?
2. Выделите современные технологические вызовы и проанализируйте, как они влияют на трансформацию правового регулирования.
3. Определите значение и тенденции развития цифрового права в России и в мире.
4. Определите место цифрового права в системе права России.
5. Каковы принципы цифрового права?
6. Назовите принципы цифрового права. Какие принципы цифрового права могут появиться в будущем?
7. Назовите основные подходы к пониманию информации в информационном обществе. Определите роль информации как стратегического ресурса цифровой экономики.
8. Что представляет собой цифровое право как система знаний и учебная дисциплина?
9. Выделите основные цифровые правоотношения? Назовите их признаки. Какие объекты цифровых отношений можно выделить?
10. Назовите основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.
Список литературы
1. Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив авторов; под ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. М.: КноРус, 2019. 594 с.
2. Белых В. С., Егорова М. А., Решетникова С. Б. Биткоин: понятие и тенденции правового регулирования // Юрист. 2019. № 3. С. 4—11.
3. Вайпан В. А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 11. С. 5—18.
4. Егорова М. А., Городов О. А. Основные направления совершенствования правового регулирования в сфере цифровой экономики России // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. С. 6—12.
5. Ершова И. В., Тарасенко О. А. Цифровое преобразование подготовки юристов от программной модели к практике реализации // Юридическое образование и наука. 2019. № 3. С. 16–21.
6. Информационное пространство: обеспечение информационной безопасности и права. Сб. науч. трудов / под ред. Т. А. Поляковой, В. Б. Наумова, А. В. Минбалеева. М.: ИГП РАН, 2018. 512 с.
7. Кузнецов П. У. Правовая методология информационных процессов и информационной безопасности (вербальный подход) / Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2001. 171 с.
8. Кузнецов П. У. Теоретические основания информационного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 55 с.
9. Минбалеев А. В. Проблемы цифрового права. Саратов: Амирит, 2022. 233 с.
10. Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых коммуникаций в условиях развития информационного общества. Челябинск: Цицеро, 2012. 451 с.
11. Основы цифровой экономики: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. М. И. Столбова, Е. А. Бренделевой. М.: ИД «Научная библиотека», 2018. 238 с.
12. Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Развитие доктрины российского информационного права в условиях перехода к экономике данных // Государство и право. 2023. № 9. С. 158–171.
13. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой; Московский государственной юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2019. 240 с.
14. Рассолов М. М. Информационное право: учебное пособие. М.: Юристъ, 1999. 400 с.
15. Рассолов М. М. Теоретические проблемы управления и информации в сфере права: автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 1990. 35 с.
16. Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Правовая сущность новых цифровых активов // Закон. 2018. № 9. С. 86–95.
17. Серова О. А., Попова О. В., Серебрякова А. А. Государственная итоговая аттестация и защита магистерской диссертации по юриспруденции (на примере образовательных программ по правовому сопровождению цифровой экономики): учебно-методическое пособие. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. 103 с.











