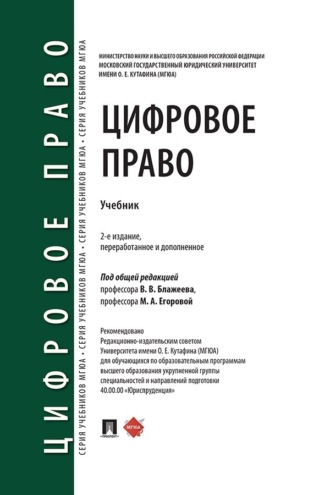
Полная версия
Цифровое право. Учебник
18. Сквозные технологии цифровой экономики. URL: http://datascientist.one/skvoznye-texnologii-digital-economy/.
19. Терещенко Л. К. Правовой режим информации. М.: Юриспруденция, 2007. 192 с.
20. Цифровая экономика: проблемы правового регулирования: монография / отв. ред. В. В. Зайцев, О. А. Серова. М.: Кнорус, 2019. 200 с.
Глава 2
Субъекты цифрового права
§ 1. Субъекты цифровых правоотношений: понятие и особенные черты
И. А. Цинделиани
Человеческий мир проходит новый этап своего развития, который рассматривается как четвертая промышленная революция[125]. Рассматриваемый этап развития человечества можно назвать эрой новых технологий, которые оказывают влияние на все сферы человеческой жизни, влекущей за собой появление новых институтов и модернизацию уже существующих. Переход человечества к новому этапу промышленной революции стимулирует государство реализовывать новую политику, которая имеет целью трансформацию многих общественных институтов и процессов[126]. Как следствие – необходимость теоретического переосмысления существующих подходов в праве, поскольку влияние новых цифровых технологий оказывает значительное влияние[127].
В традиционном определении субъектами права признаются участники правоотношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности. В юридической литературе субъекты права подразделяются на два вида: индивидуальные и коллективные субъекты. К числу индивидуальных субъектов относят граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства; к коллективному субъекту необходимо относить публично-правовые образования РФ, ее субъекты и муниципальные образования, а также организации всех организационно-правовых форм, а также их объединения. Для того чтобы субъекты могли быть участниками конкретных правоотношений, они должны обладать правосубъектностью, которая основывается на трех базовых элементах: правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
Правоспособность представляет собой способность иметь субъективные права и юридические обязанности, а дееспособность – возможность своими действиями реализовывать права и обязанности. В свою очередь, деликтоспособность определяется как способность лица нести ответственность за правонарушения, запрещенные действующим законодательством. При этом каждый их этих элементов правосубъектности обладает своей спецификой, связанной с моментом возникновения, изменения или прекращения. Рассматриваемые свойства правосубъектности справедливо подразделяются на определяющие и производные. Определяющим является правоспособность, а производными от нее являются дееспособность и деликтоспособность.
Необходимо отметить, что динамичное внедрение цифровых технологий, как в отдельных государствах, так и в целом в мире, влечет за собой необходимость переосмысления традиционных подходов к проблеме правовых средств регулирования складывающихся общественных отношений. Цифровые технологии, внедрение и развитие которых становится важнейшим фактором, влияющим на трансформацию экономических отношений, в значительной степени влияют и на подходы к определению субъектного состава общественных отношений, формирующихся в новой социально-экономической сфере. Несмотря на то, что внедрение новых цифровых технологий находится на первоначальном этапе реализации, это уже ставит перед законодателями и исследователями задачу нахождения новых правовых механизмов, способных адаптировать появление новых общественных отношений к потребностям общества. Базовыми направлениями развития новых цифровых технологий стали:
• конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения;
• обработка больших объемов данных;
• искусственный интеллект;
• доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой сфере;
• облачные и туманные вычисления;
• Интернет вещей и индустриальный Интернет;
• робототехника и биотехнологии;
• радиотехника и электронная компонентная база;
• информационная безопасность и др.
Значительное влияние новые технологии оказывают на финансовую инфраструктуру государства и приводят к появлению новых технологий в финансовой и экономической системе государства в целом, в частности, новыми перспективными финансовыми технологиями признаны:
• Big Data и анализ данных;
• мобильные технологии;
• искусственный интеллект;
• роботизация;
• биометрия;
• распределенные реестры;
• облачные технологии.
Затрагивающие такие важнейшие сферы, как:
• платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей; сервисы онлайн-переводов; 1 EY – исследование для дорожной карты FinNet Национальной технологической инициативы Агентства стратегических инициатив; Р2Р2 обмен валют; сервисы B2B3 платежей и переводов; облачные кассы и смарт-терминалы; сервисы массовых выплат;
• финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-кредитование, краудфандинг;
• управление капиталом: робоэдвайзинг, программы и приложения по финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы целевых накоплений и иное[128].
На горизонте 2025–2027 годов осуществляется реализация следующих основных направлений совершенствования правового регулирования финансовых технологий:
• платежных технологии и сервисов;
• единой биометрической системы;
• цифрового профиля;
• открытия API и Платформ коммерческих согласий;
• цифровых прав и токенизации;
• искусственного интеллекта;
• облачных технологии;
• единой информационной системы проверки сведений об абоненте;
• экспериментальных правовых режимов и регулятивной «песочницы»[129].
Учитывая, что мы находимся только на пороге модернизации общественных отношений, связанных с внедрением и развитием цифровой экономики, и, как следствие, на начальном этапе выработки правовых инструментов, посредством которых будет обеспечиваться регулирование отношений, возникающих в связи с применением цифровых технологий, представляется необходимым остановиться на анализе тех концептуальных подходов, которые выработала современная правовая наука. Необходимо отметить, что наше общество находится на начальном этапе выработки правовых инструментов, которые должны качественно обеспечить регулирование отношений в связи с применением цифровых технологий. Прежде всего, цифровые технологии влекут за собой возникновение новых общественных отношений, качественно отличающихся как по содержанию, так и по субъектному составу. В частности, в исследованиях выделяется специфика рассматриваемых правоотношений, а именно:
• субъектами становятся виртуальные, или «цифровые личности». Такое «лицо», по сути, образуют цифровые данные о реальном человеке, его виртуальном или цифровом образе (nickname, сетевом имени) и IP-адресе, к которому привязан компьютер, с которого совершены какие-либо действия в виртуальном пространстве;
• в сфере правового регулирования появляются отношения, в которых если не субъектом, то как минимум участником становится новая цифровая личность – робот[130]. Предлагается рассматривать появление таких субъектов как электронное лицо и рассматривать их как носителей искусственного интеллекта (машина, робот, программа), обладающих разумом, аналогичным человеческому, способностью принимать осознанные и не основанные на заложенном создателем такой машины, робота, программы алгоритме решения, и в силу этого наделенных определенными правами и обязанностями[131].
По мнению О. А. Ястребова, под электронными лицами необходимо рассматривать комплекс обязанностей и прав, причем содержанием юридических прав и обязанностей являются действия искусственного интеллекта. Последний можно интерпретировать как сложную совокупность коммуникационных и технологических взаимосвязей, обладающую способностью логически мыслить, управлять своими действиями и корректировать свои решения в случае изменения внешних условий[132]. Весьма интересной является попытка раскрытия правосубъектности электронного лица, предпринятая М. Д. Шапсуговой, в рамках которой предлагается разграничивать абстрактные и конкретные категории[133]. В свою очередь, П. М. Морхат рассматривает электронное лицо как обладающий некоторыми признаками юридической фикции (по аналогии с юридическим лицом) формализованный технико-юридический образ (в значении воспринимаемой и сознаваемой третьими лицами целостной информационной проекции), отражающий, воплощающий модальную фреймизацию и детерминирующий в юридическом пространстве конвенционально (условно) специфическую правосубъектность персонифицированного юнита искусственного интеллекта, обособленную от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированный к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому назначению. При этом правосубъектность юнита искусственного интеллекта является (и должна являться) мультимодальной – гетерогенной (в части комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированной к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому назначению[134]. Как видно, подходы исследователей к пониманию субъектов общественных отношений, складывающихся в процессе формирования и развития цифровой экономики, находятся на стадии концептуального осмысления модели, которая порождается новыми технологиями. Учитывая, что технологические модели, которые будут формировать фундамент цифровой экономики, и порождаемые этим процессом экономические отношения только формируются, происходит первоначальный этап формирования возможных моделей функционирования общественных отношений и субъектов, принимающих в них участие, с учетом новых технологических решений. Как следствие, набор имеющихся правовых средств регулирования развивающихся отношений в сфере цифровой экономики находится на первоначальном этапе формирования.
В современной литературе даются различные определения цифровой экономики. В частности, Л. В. Лапидус определяет ее как совокупность отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления, основанных на онлайн-технологиях и направленных на удовлетворение потребностей в жизненных благах, предполагающих формирование новых способов и методов хозяйствования и требующих действенных инструментов государственного регулирования[135]. Авторы учебника «Цифровой бизнес» воспроизводят в определении цифровой экономики понятие, данное в Оксфордском словаре: экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием Интернета[136].
Представляется, что в самое ближайшее время на законодательном уровне предстоит закрепить важнейшую новацию, обусловленную технологическим прогрессом, а именно появление новых феноменов, наделенных определенными свойствами, которые условное можно обозначить как электронное лицо. Несомненно, что на данном этапе их придется рассматривать как фикцию, наделяемую определенными свойствами правосубъектности, но имеющую ограничительные пределы. Их нельзя будет рассматривать как идентичных физическим лицам и организациям – участникам правоотношений, поскольку свойственные им элементы правосубъектности не могут быть полностью распространены на электронных лиц. Но при этом такие феномены в качестве определённой фикции имеют полноценную перспективу нормативного закрепления в качестве определенных участников правоотношений в сферах, связанных с применением цифровых технологий.
§ 2. Система субъектов цифровых правоотношений
И. А. Цинделиани
Внедрение цифровых технологий в социально-экономическую жизнь общества обусловливает необходимость определения субъектного состава цифровых правоотношений. При этом имеются определенные сложности сегодняшнего дня: практически нулевое наличие нормативного массива, позволяющего полноценно определить субъектный состав рассматриваемых правоотношений. Законодатель находится на этапе разработки нормативного массива, точнее, еще находится в поиске модели регулирования, которая позволит максимально эффективно внедрить технологические достижения в социально-экономическую жизнь общества. Несомненный интерес представляют зарубежный опыт регулирования внедрения цифровых технологий и используемые модели в данной сфере, а также теоретические исследования, посвященные данной проблематике. Резолюция Европарламента от 16.02.2017, включающая Хартию робототехники[137] подчеркивает, что человечество находится на пороге эры высокотехнологичных роботов, ботов, человекоподобных роботов и других устройств, в основу работы которых заложен искусственный интеллект (в дальнейшем – ИИ) и которые символизируют своим появлением начало новой промышленной революции (которая почти наверняка затронет все слои общества). Поэтому жизненно важно, чтобы установленные этические и правовые нормы не подавили развитие инноваций. Особо необходимо отметить следующие положения:
• роботы способны выполнять работу, которую раньше могли выполнять только люди. Роботы все больше и больше становятся похожи на агентов, которые могут взаимодействовать со своей средой и вносить в нее значительные изменения; в таком контексте одним из важнейших вопросов становится вопрос о правовой ответственности за вред, причиненный действием робота;
• автономность робота можно определить как его способность принимать решения и реализовывать их самостоятельно, без внешнего контроля или воздействия; автономность робота носит чисто технический характер, и ее степень зависит от того, насколько хорошо робот запрограммирован взаимодействовать с окружающей средой своим разработчиком;
• чем выше степень автономности робота, тем меньше робот может расцениваться как простой инструмент в руках третьих лиц (производителя, оператора, владельца, пользователя и т. д.); это положение, в свою очередь, поднимает вопрос о том, являются ли достаточными обычные правила правовой ответственности;
• в контексте автономности роботов возникает вопрос об их правовой природе; может ли она находиться в рамках существующих правовых категорий или же нужно создать новую категорию, которая будет иметь свой собственный ряд характеристик и положений;
• в существующих правовых рамках роботы сами по себе не могут нести ответственность за действия или бездействие, по причине которых был нанесен вред третьим лицам; существующими правилами наступления ответственности предусмотрены случаи, когда действия или бездействие роботов находятся в причинно-следственной связи с действиями или бездействием конкретных лиц, например производителей, операторов, владельцев или пользователей, и они могли предвидеть и избежать поведения роботов, в результате которого был нанесен урон; помимо этого, производители, операторы, владельцы или пользователи могут быть привлечены к объективной ответственности (независимой от наличия вины) за действия или бездействие роботов;
• к причиненному роботами или ИИ вреду применяются существующие правовые нормы, во-первых, об ответственности за качество и безопасность товаров, согласно которым производитель несет ответственность за любые неисправности, а также, во-вторых, об ответственности за вредоносные действия, согласно которым пользователь продукта несет ответственность за поведение, повлекшее за собой возникновение вреда;
• стандартных правил наступления ответственности недостаточно в случаях, когда урон был нанесен по причине решений, которые робот принимает самостоятельно; в данных случаях будет невозможно определить третью сторону, которая обязана выплатить компенсацию и возместить причиненный ею ущерб;
• недостатки существующего правового регулирования также отчетливо проявляются в сфере договорной ответственности; если машины будут разработаны так, что они сами могут выбирать своих контрагентов, обсуждать условия договоров, заключать договоры и решать, как их исполнять, то обычные правила не будут к ним применимы; это обозначает необходимость создания новых эффективных и современных правил, которые будут учитывать технологическое развитие и инновации, внедрение и использование которых произошло недавно[138].
В свою очередь, законодательство Южной Кореи определяет понятие «умный робот» как механическое устройство, которое способно воспринимать окружающую среду, распознавать обстоятельства, в которых оно функционирует, и целенаправленно передвигаться самостоятельно[139].
Проблема определения субъектов, являющихся участниками отношений, возникающих в сфере цифровых технологий, охватывает все передовые государства и их объединения. Весьма важным является анализ существующих концепций, которые могут быть положены в нормативный массив, который будет обеспечивать определение статуса субъектов цифровых правоотношений.
Проводимые исследования системы субъектов цифровых правоотношений сегодня базируются на нескольких подходах, раскрывающих правосубъектность электронных лиц, наделенных искусственным интеллектом:
• первый подход основывается на рассмотрении электронных лиц, сопоставляя их с правосубъектностью физических лиц;
• второй основывается на рассмотрении электронных лиц, сопоставляя их с правосубъектностью организации;
• третий подход основывается на рассмотрении электронных лиц как феноменов, обладающих специальной ограниченной правосубъектностью электронных лиц в контексте агентских отношений[140].
На сегодняшний день сложно представить, какой путь будет выбран в регламентации сферы цифровых технологий. Тем не менее законодательные массивы, как в сфере частного, так и публичного права, должны будут отразить специфику электронных лиц, в том числе такой их разновидности, как роботы и иные технологические феномены, функционирование которых основывается на ИИ. Другой важный фактор, который должен учитываться при формировании нормативного массива, обеспечивающего регулирование отношений в сфере цифровых технологий, – это защита физических и юридических лиц от возможного причинения им урона (ущерба, убытков), обусловленного деятельностью технологических феноменов, основанных на ИИ. Это потребует модернизации всего законодательства как в сфере частного, так и публичного права.
§ 3. Отдельные субъекты цифровых правоотношений и особенности их правового статуса
И. А. Цинделиани
Категория «правовой статус субъекта» до настоящего времени остается предметом широкой дискуссии, обусловленной отсутствием единообразного подхода к содержанию данной категории[141], что не лишило широкого применения данной категории при характеристике участников правоотношений.
Категорию «правовой статус субъекта» определяют через закрепленные в законодательстве права и обязанности. Условно термин «правовой статус» применим для определения совокупности прав и обязанностей как индивидуальных, так и коллективных субъектов для характеристики субъектов, участвующих в правоотношениях, возникающих в связи с применением цифровых технологий.
В юридической литературе правовой статус предлагается подразделять на пять видов: международно-правовой, конституционный, отраслевой, специальный, индивидуальный[142]. Представляется, что правовой статус субъектов цифровых правоотношений необходимо будет рассматривать с участием специфики таких отношений, в основе которых лежат цифровые технологии.
А. А. Карцхия, рассматривая особенности цифрового гражданского оборота, выделяет следующую его специфику:
• осуществляется в сети Интернет (виртуальном пространстве, виртуальной реальности), заключается в нематериальном характере самого оборота, субъектов и объектов такого оборота, отличного от традиционного гражданского оборота объектов физического мира, окружающего человека. А при этом субъектами выступают не юридические или физические лица, а цифровые идентификаторы (компьютерные коды, IP-адреса, числовые записи-идентификаторы {ID номер} и условные обозначения {nick-name и др.}), а также цифровые сущности (ИИ в самых разнообразных формах).
При этом за цифровыми идентификаторами могут стоять как юридические и физические лица, так и компьютерная программа, код (программа для ЭВМ) в виде ИИ или смарт-контракта, а также технологическая платформа (комплекс технологий для рассылки сообщений {мессенджеры}, социальная сеть при рассылке рекламы, запросе пользовательских данных, а также технологический комплекс сбора и аналитики больших данных и др.). Субъектами могут выступать использующие те же средства идентификации государственные органы – регуляторы, предоставляющие сведения своих баз данных, цифровых и электронных реестров при оказании государственных услуг или сборе сведений (данных), обязательных для предоставления регулятору либо по его запросу.
Специальными субъектами цифрового гражданского оборота являются информационные посредники, операторы интернет-сервиса, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и др.[143]
Иные авторы, рассматривая перспективу широкого внедрения цифровых технологий и одного из его направлений – робототехники, признавая отсутствие прямого указания в законодательстве о правах и обязанностях, предлагают выделять следующие субъекты:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901
2
Зорькин В. Д. Право против хаоса. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. С. 8.
3
Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин. 16.06.2017. URL: https://ria.ru/science/ 20170616/1496663946.html (дата обращения: 25.04.2020).
4
Доклад НИУ ВШЭ. Что такое цифровая экономика: тренды, компетенция, измерение. При участии Всемирного банка Москва. 2019. С. 13.
5
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41550.
6
СПС «КонсультантПлюс».
7
См.: Белых В. С. Цифровая экономика и цифровой бизнес как объекты правового регулирования // Бизнес, менеджмент и право. 2023. № 2. С. 32–33.
8
Вайпан В. А. Правовое регулирование цифровой экономики: история, теория, практика // Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: монография / колл. авт.; Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ассоциация Российских дипломатов; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. С. 25.
9
Белых В. С. Цифровая экономика и цифровой бизнес как объекты правового регулирования. С. 36–37.
10
Более подробно см.: Проблемы создания цифровой экосистемы: правовые и экономические аспекты: монография / под общ. ред. В. А. Вайпана, М. А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2021. 276 с.
11
Зорькин В. Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума. URL: https://rg.ru/2018/05/29/zorkinzadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.htm.
12
См.: Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2020. 920 с.
13
Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продукта социальной сети Facebook на территории России запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
14
Право будущего: интеллектуальная собственность, инновации, Интернет: ежегодник. Вып. 1 / РАН. ИНИОН. Центр. социал. науч. – информ. исслед. отд. правоведения; каф. предпринимательского права МГУ им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Е. Г. Афанасьева. М., 2018. 207 с. (А. А. Карцхия. Цифровое право как будущее классической цивилистики. [Статья]).
15
Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума.











