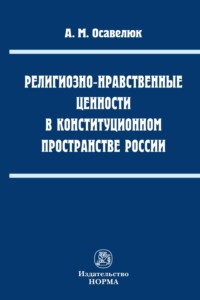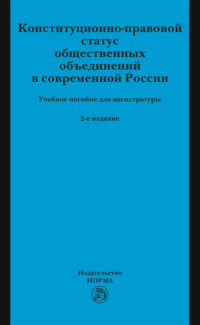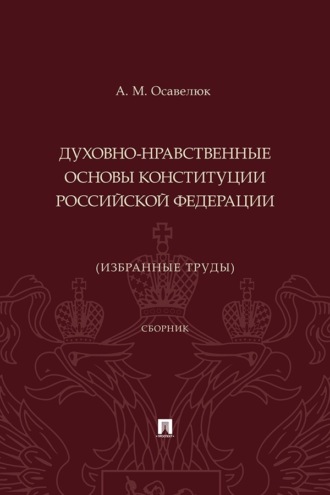
Полная версия
Духовно-нравственные основы Конституции Российской Федерации (избранные труды)
Далее он пишет, что наступившая реакция на долгие годы «похоронила» идею конституции в России. И только якобы назревшая в начале XX в. революционная ситуация в стране переломила сопротивление правительства, 6 августа 1905 г. Манифестом Николая II была учреждена Госдума. 17 октября 1905 г. издан Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». В нем провозглашалось дарование населению незыблемых основ гражданской свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов; избирательные права; чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Госдумы и возможность действительного участия в надзоре за законностью действий исполнительной власти[105].
В соответствии с Манифестом Госдума получила законодательные права, рассмотрение государственной росписи доходов и расходов вместе с финансовыми сметами министерств и главных управлений, дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, о постройке железных дорог и т. д. Она могла обращаться с запросами к министрам по поводу действий, которые сочтет незаконными, а также за разъяснениями.
Некоторые авторы, например, С. А. Авакьян пытаются выйти за указанные временные рамки октября 1905 г., верно отмечая, что «идеи конституции и конституционализма известны России еще с начала XIX в. Они отражались в высказываниях или конституционных проектах многих известных деятелей и ученых, а также в официальных документах. Например, Свод законов Российской империи открывался Сводом основных государственных законов – совокупностью основных правил устройства государства. Его первым разделом были «Основные государственные законы», вторым – «Учреждение об императорской фамилии»». Все же основной его мыслью является та, что «есть основания утверждать, что первые шаги по пути учреждения конституционализма Россия сделала именно в начале XX в.»[106].
Думается, что указанные позиции грешат неточностью и известной предвзятостью, которые вызваны неверным методологическим приемом: попыткой распространить современные представления о конституции на ситуацию с Основным законом, которая существовала в отечественной и зарубежной юридической науке в XIX в. и ранее.
Если исходить из современного представления о конституции, то следует признать, что наиболее распространенными определениями понятия конституции являются следующие: «Конституция юридическая — это документ, основной закон (несколько основных законов) имеющий высшую юридическую силу, принимаемый и изменяемый особом порядке, регулирующий в большем или меньшем объеме основы социально-экономического строя, политической системы, правового статуса личности, духовной жизни общества»[107]. «Конституция – это правовой документ, обладающий определенными особенностями формы и содержания, порядка принятия и изменения, а также особой юридической силой. Конституция стоит во главе системы источников национальной системы права и отрасли конституционного права, содержит их исходные начала»[108].
Под особым порядком принятия конституций современная наука конституционного права понимает принятие конституции народом (непосредственно – на референдуме, или опосредованно – парламентом, учредительным собранием).
При таком понимании конституции немудрено не только «не увидеть» наличие в Российской империи конституционных актов, принятых в период конца XVIII – начала XX в., но и серьезных конституционных преобразований после 17 октября 1905 г.
В этой связи, думается правильным будет не столько то, что понимает современный ученый под конституцией России в XIX – начале XX в., сколько то, что писали о конституции и что понимали под ней известные ученые в области конституционного (государственного) права прошлых веков, которые творили в эпоху принятия первых конституций (может быть даже были причастны к созданию конституционных актов своей страны), чтобы выявить, что понималось под конституцией и конституционным правом тогда, а не в период тотальной идеологизации XX в.
Например, А. Куницын еще в XVIII – начале XIX в. отмечал, что государственное право «регулирует отношения между верховной властью и подданными, основанные на началах права и общественного объединения»[109].
Известный государствовед Г. Еллинек (XIX в.) отмечал, что «конституция государства обычно охватывает все те правовые положения, которыми определяются органы верховного управления, способ их образования, их взаимные отношения и круг деятельности каждого из них; вместе с тем в них провозглашаются принципы, определяющие положение личности по отношению к государственной власти.
Полезно вспомнить, что понятие конституции в вышеупомянутом смысле было выработано уже древними греками… По определению Аристотеля, конституция есть законодательное положение, определяющее организацию властей в государстве: как подразделяются власти, которой из них и какие цели каждая из них осуществляет»[110].
Известный российский государствовед В. М. Гессен признавал, что «конституция, как основной закон, определяющий организацию государства, определяющий распределение функций властвования между отдельными органами власти, определяющий отношение между государственной властью, с одной стороны, и гражданами – с другой и т. д., что такая конституция существует всегда и везде, во всяком государстве. Мы не можем представить себе государства, будь то республика или монархия, в котором не было бы конституции, не было бы каких-либо норм, определяющих организацию государства. Государство без конституции это – анархия, а не государство»[111].
Следовательно, конституционно-правовые институты и конституция, как акт, определяющий организацию государства и распределение функций властвования и отношения с гражданами (подданными) появились с государством и правом и сопутствовали им всегда. Просто под влиянием «революционных» событий в Великобритании, во Франции и Америке конца XVII – начала XVIII в. (вскоре вслед за ними и наша «революционная» интеллигенция потянулась в том же направлении) поменялось представление об источнике государственной власти[112].
В настоящее время в Российской Федерации и в государствах Западного мира принято считать, что источником государственной власти, полномочий основных государственных институтов и учредителем конституции является народ.
Если указанное утверждение является верным, то что такое октроированная конституция о которых пишут во всех учебниках по конституционному праву зарубежных стран (и не только этой дисциплины и отрасли юридической науки) и какой у нее юридический статус, если к ее принятию ни народ, ни представительный орган государственной власти не причастны.
Думается, более правильным будет широкий подход к понятию конституции, способам ее появления и содержания при которой конституцией следует считать особый нормативный правовой акт, который принимается не только народом или представительным органом государственной власти. Например, проф. Чиркин В. Е. вполне справедливо отмечает, что ранее у нас и у различных народов мира в разное время источником власти считались Бог[113], монарх и т. п.)[114].
Следовательно, если предварять вопрос эволюции конституции Российской империи разрешением проблемы ее наличия и времени ее появления, то следует отметить, что в тот период времени она была. Более того, мы неоднократно отмечали, что в Российской империи конституция появилась до XIX в.[115]
На наш взгляд, конституционные акты, которые в совокупности составляли Конституцию Российской империи появились еще в XVIII в., и даже раньше. К числу конституционных относится, например, Закон о престолонаследии 1797 г., упоминавшееся выше Учреждение об императорской фамилии 1797 г.[116], Манифест от 19 февраля 1861 г., превративший в свободных граждан 22 млн крепостных[117], Положение о крестьянах 1861 г.[118], Городовое положение 1870 г.[119] и многие другие.
При сопоставлении конституционных актов Российской империи с аналогичными актами зарубежных государств, невольно создается впечатление, что отечественные исследователи конституционного права и истории государства и права «обедняют» государственную историю Отечества. Так, в состав конституционных актов Великобритании они включают Великую Хартию вольностей 1215 г., закрепившую права всего лишь нескольких сотен феодалов, Акт о престолонаследии 1701 г.; в США – Акт 1870 г., формально отменявший рабство, в Швеции – Акт о престолонаследии 1810 г. и т. д.
В состав конституционных актов России они почему-то не включают Закон о престолонаследии и Учреждение об Императорской Фамилии, утвержденные императором Павлом I 5 апреля 1797 г., которые были с юридической точки зрения более совершенными, чем их аналоги в Великобритании и других государствах. Не включают также Манифест от 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права, даровавший личную свободу нескольким десяткам миллионов человек, и утвердивший Положение о крестьянах; акты 1864–1870 гг. о независимом суде, заложившие задолго до 17 октября 1905 г. основы разделения властей и др.
Еще одна ошибка (упущение), которую допускают современные и многие дореволюционные ученые, состоит в том, что они под началом конституционного развития России понимают ограничение власти Монарха парламентом. Например, Л. А. Шаланд писал относительно положений Манифеста 17 октября 1905 г. применительно к Госдуме: «С этого момента Россия становится ограниченной конституционной монархией»[120].
В. В. Ивановский также писал, что «Манифест 17 октября 1905 года имеет огромное юридическое значение; это акт монархической власти, знаменующий ее отречение от начала неограниченности и, следовательно, введение в России конституционной монархии»[121].
В. М. Грибовский писал еще более определенно: «Юридическое ограничение власти Монарха с момента издания манифеста 17 октября уже существовало, но приведение в действие новых форм требовало времени; еще фактически не существовало того учреждения, которому предоставлено разделить с Монархом право законодательства. Между тем, дело ближайшего правового улучшения печати, вопрос о собраниях и прочее требовали скорейшего осуществления. В итоге получилось по отношению к действию пункта 3 манифеста 17 октября некоторое vacation legis, закончившееся 27 апреля 1906 г., в день первого созыва парламента. В этот промежуток Император, будучи ограниченным, тем не менее законодательствовал в условиях старого порядка по праву, за отсутствием требуемого законом законодательного органа»[122].
Во-первых, в подобных рассуждениях о Манифесте 17 октября речь о конституции как особого рода нормативном правовом акте (источнике права) подменяется рассуждениями о форме правления, т. е. о содержании одного из разделов конституции.
Во-вторых, даже если и согласиться с авторами подобных рассуждений (с учетом того, что форма правления – один из важнейших разделов конституции), то даже это также принципиально ничего не меняет в сущности конституции, а также в ее наличии до 17 октября 1905 г.
В-третьих, в подобных рассуждениях явно просматривается попытка противопоставления конституции форме правления.
В-четвертых, авторы подобных рассуждений не только подменяют форму правления, подразумевая под Самодержавием абсолютную монархию, но и принципиально искажают суть, правовые основы Самодержавия.
Относительно подмены понятий конституции и форм правления мы согласны с позицией Г. Еллинека о том, что «и абсолютная монархия имеет свою развитую конституцию, основой которой является делегация посредствующим органам функций, по своей субстанции остающихся у монарха»[123].
Тем более, что степень неограниченности власти абсолютного монарха сильно преувеличена. Из приведенного в предыдущем абзаце примера о делегации абсолютным монархом посредничающим органам определенных функций явствуют (независимо от того это выборный парламент или назначаемый монархом Совет министров), что речь идет только о юридической его неограниченности и только о сущности его власти.
Поскольку, юридически все законы и все государственное управление осуществляется от его имени; делегируя указанным органам определенные функции, он вынужденно наделяет их соответствующими полномочиями (как бы временно передает их им), оставляя себе «субстанцию» власти. Фактически же получается, что «передав» указанные полномочия он уже сам их не осуществляет, но в то же время у него и нет полной уверенности в том, что делегированные полномочия посредничающими органами будут выполнены в точности так же, как он их выполнял бы, и вообще будут ли выполнены.
В этом отношении верную мысль высказывал Л. А. Тихомиров: «Я употребляю… слово «конституция» не в смысле «ограничения» монархической власти, а в прямом смысле слова, то есть как правильное, закономерное построение учреждений. Монархическая конституция – значит система правильно организованных учреждений, созданных монархией как Властью Верховной»[124].
Относительно противопоставления формы правления и конституции удачно сформулировал свою мысль Н. А. Захаров, который отметил, что вспоминая картину «противопоставления конституции и самодержавия, невольно удивляешься этому узкому, одностороннему, антиюридическому взгляду. И мы должны еще раз повторить, что эти два понятия не только совместимы, но одно является общим, а другое частным, если конституция – зафиксированное, установленное изложение форм властвования, то самодержавие есть одна из этих форм»[125].
Позиция Н. А. Захарова в определенной степени перекликается с ответом на попытку подмены понятий «самодержавие» и «абсолютная монархия». Известно, что в определенных научных кругах сложилось представление о том, что самодержавие и абсолютизм – это синонимы. И этим во многом объясняется упоминавшееся выше мнение некоторых ученых о том, что конституция, дескать, ограничивает самодержавную власть монарха, поскольку позволяет формировать на ее основе парламент; что конституция возможна только при ограничении власти самодержавного монарха.
Из истории нашего государства хорошо известно, что самодержавие как монархическая форма правления существовала и при Иване IV и при Петре I. Правда, при первом из них – и юридически и фактически, а при втором – только формально, а фактически (во многом и юридически) это была уже абсолютная монархия. Например, широко известно, что при Иване IV (и после него – до Петра I) заседала Боярская дума, созывались Земские соборы[126] для решения важнейших государственных дел и принятия основополагающих законодательных актов.
Только при Иване IV созывалось несколько Земских Соборов. В 1549 г. Иван IV созвал самый первый Собор («Собор примирения» на котором рассматривалась проблема отмены кормлений и злоупотреблений чиновников на местах), а также принят Судебник 1550 г. – сборник законов периода сословной монархии в России, первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашенный единственным источником права.
Впоследствии такие соборы стали называться Земскими; слово «земский» могло обозначать «общегосударственный» (то есть дело «всей земли»). Самый ранний собор, о деятельности которого свидетельствует дошедшая до нас Приговорная грамота (с подписями и перечнем участников думного собора) и известия в летописи, состоялся в 1566 г., на нем главным был вопрос о продолжении или прекращении кровопролитной Ливонской войны. Судьбе политического устройства страны были посвящен Земский Собор 1565 г., когда Иван IV уехал в Александрову слободу.
Следовательно, ни Боярская дума, ни Земские Соборы не только не мешали ему чувствовать себя на престоле самодержавным царем (а скорее – помогали в борьбе с отдельными строптивыми боярами) и указывать на это в своей переписке как с иностранными монархами, так и с А. Курбским[127]. Да, Иван IV вел борьбу с конкретными нарушителями закона, но не упразднял таких институтов власти, как Боярская дума, Земский Собор, главу Церкви митрополита. Это позволяло ему с одной стороны, быть самодержавным монархом, а с другой – не нарушать основы государственной власти.
Самодержавие в отличие от абсолютизма базируется на принципиально иных духовных, нравственных и правовых основах. Поэтому Иван IV относился к власти Царя как Богоустановленной (а не поддерживаемой дворянами, как при Петре I). «У него, конечно, не было и мысли видеть в Земском Соборе представительство власти народа как верховного вершителя дел. Верховной властью была его царская власть, и все права ее вытекали из ее обязанностей, миссии, свыше возложенной; права его были ограничены не правами его подданных, а их обязанностями по отношению к Богу. Где верховная власть требует неповиновения Богу, там кончается повиновение ей, ибо она выходит тогда из своей компетенции. Но подданные обязаны содействовать Царю в устройстве государственных дел, когда он призывает их, и решать их, когда он им приказывает это; само право на это определяется их обязанностью содействия Царю»[128].
Некоторые авторы пытаются объяснить отсутствие в России конституции до 17 октября 1905 г. тем обстоятельством, что в конституционных актах якобы отсутствовали положения об их пересмотре и что они в названии не содержали термин «конституция». В частности, Л. А. Шаланд отмечал, что «хотя наше законодательство и раньше выделяло особую категорию законов, называвшихся основными законами, но ввиду отсутствия каких-либо особых правил, определяющих особые условия их пересмотра, они совершенно сравнивались со всеми прочими законами. Поэтому с созданием этих правил у нас появляется конституция в формальном смысле, так как в материальном смысле, т. е. в смысле юридических норм, определяющих государственный правопорядок, Основные Законы были у нас и раньше»[129].
Думается, что и эта попытка «отказать» Российской Империи в наличии у нее Конституции так же несостоятельна, как несостоятельны все позиции, рассмотренные нами выше. Правда, если, не прибегать к двойным стандартам. Поскольку при наличии актов, содержание которых закрепляет основы организации государственной власти и других подобных вопросов, имеющих конституционное значение, формально, наличие юридической формулы принятия поправок к конституции и порядка ее пересмотра на существование конституции принципиально не влияет. Это видно на примере так называемых неписаных по форме конституций (Великобритания, Израиль, Новая Зеландия), которые таких формул не имеют[130].
Кроме того, например, в канадской Конституции 1867 г. раздел, посвященный принятию поправок и ее пересмотру, появился только с принятием Конституционного Акта 1982 г. Тем не менее, ни первый из 30 актов, составляющих конституцию Канады, – Конституционный Акт 1867 г. (прежнее название Акт о Британской Северной Америке 1867 г.), ни остальные 29 актов Конституции Канады до 1982 г. не вызывали сомнения в отношении наличия у Канады Основного закона. Свидетельством этому является не только упоминавшиеся нами конституционные акты, но и то, что о содержании, структуре и форме Конституции Канады написано много научных работ[131].
Аналогичная ситуация и с наличием в названии конституционного акта словосочетания «Основной Закон». Например, в Израиле действует одиннадцать основных законов (по другой версии перевода – фундаментальных законов), каждый из которых представляет собой как бы отдельную главу конституции. Например, первым из них был закон о Кнессете (парламенте) 1958 г. Следующим был Закон о земельных владениях 1960 г. Третий Основной закон посвящен Президенту Государства 1964 г. Следующие основные законы посвящались Правительству: Закон «Правительство» 1968 г. и Закон с таким же названием 1992 г., заменяющий Закон 1968 г., а Основной закон о Правительстве 2001 г. заменил Закон 1992 г. Далее следуют законы «О судоустройстве» 1974 г. и Основной закон о государственном хозяйстве 1975 г., а затем – Основной закон об израильских вооруженных силах 1976 г. В 1980 г. был принят Основной закон о столице Израиля – Иерусалиме, а в 1984 г. – Основной закон о порядке судопроизводства, потом (в 1988 г.) – Основной закон о Государственном контролере. В 1992 г. помимо упоминавшегося Закона о Правительстве были приняты основные законы о достоинстве и свободе человека и о свободе выбора занятий (последний в 1994 г. был заменен Основным законом о предпринимательстве)[132].
К указанным выше основным законам в Израиле примыкает еще ряд очень важных с точки зрения их конституционного содержания законов и других актов, которые не имеют названия «Основной»: Декларация независимости 1948 г., Закон о праве возвращения 1950 г., которым регулируется репатриация евреев на историческую родину, Закон о членах Кнессета (иммунитет, права и обязанности) 1951 г., Закон о равноправии женщин 1951 г., Закон о гражданстве 1952 г., Закон о судьях и другие.
Как видим, наличие или отсутствие в названии конституционного закона словосочетания «Основной закон» никак не сказывается ни на его содержании, ни на статусе как конституционного акта. Самое главное основание для отнесения того или иного закона к числу конституционных актов является его содержание и место в системе источников права. Другими словами, необходимо чтобы содержание подобного закона регулировало те вопросы, которые обычно регулируются конституциями в других государствах: форма правления, форма государственного устройства, порядок формирования и полномочия органов государственной власти, права и свободы человека и гражданина, основы местного самоуправления и т. п.
Но даже если не вдаваться в детали и отбросить те рассуждения о подмене формой содержания, о подмене самодержавной формой правления наличия конституции и т. п., о чем шла речь на предыдущих страницах, а попытаться дать общую оценку Манифесту от 17 октября 1905 г. и рассмотренных выше в отношении него позиций Л. А. Шалланда, В. В. Ивановского, В. М. Грибовского, касающихся его содержания и реализации посредством формирования и последующей деятельности нескольких созывов Государственной думы, то следует отметить следующее.
Если допустить правоту Л. А. Шаланда, В. В. Ивановского, В. М. Грибовского и попытаться согласиться с их позицией, т. е. с тем, что Конституция (а вместе с ней и конституционная монархия) в Российской империи якобы появилась в связи с тем, что Манифест 17 октября ограничил самодержавную власть Императора юридически (по версии В. М. Грибовского: и юридически и фактически – с момента начала работы первого созыва Государственной думы с 27 апреля 1906 г.), то необходимо дать ответ на несколько принципиальных с точки зрения конституционной теории и конституционного права вопросов.
Например, что принципиально нового (не предусмотренного действовавшим до этого события государственным правом Российской империи, или противоречащего содержанию предшествующих конституционных актов Российской империи) привнес Манифест от 17 октября 1905 г. в действовавшую до его принятия Конституцию? Как и каким образом он ограничил полномочия российского Монарха? Какие из действовавших до его принятия конституционные акты он или избранная на основе его положений Государственная дума изменили или отменили?
Отвечая на поставленные вопросы, следует подчеркнуть, что Манифест 17 октября 1905 г. и последующие за ним акты не только не привнесли ничего принципиально нового в основные законы, не отменил ни одного их положения и тем самым не ограничил полномочий Монарха. В этой связи можно согласиться с Н. А. Захаровым, который утверждал, «что ни учреждение Государственной Думы, ни новые начала, возвещенные 17 октября 1905 г., не сопровождались, в сущности, ясными указаниями на изменения основ нашей государственной власти. Это были личные октроированные акты Государевой милости, возвещенной путем манифеста, а не в установленном ст. 50 основных законов (издание 1892 г.) законодательном порядке, то есть в виде Высочайше утвержденных мнений Государственного Совета… Вот почему названный акт, равно как и некоторые последующие, как, например, избирательный закон 11 декабря 1905 г., манифест и указы 20 февраля 1906 г. и конституция 23 апреля 1906 г., изданные как непосредственное, самостоятельное волеизъявление новых основных начал государственного строя, не были актами в строгом смысле слова ни законодательными, ни правительственными, это были акты той особой власти, которая располагала в данном случае всеми тремя моментами законодательной деятельности – инициативы, рассмотрения и последующего решения, черпавшей свои права в самой себе, а не пользовавшейся ею в силу какой-либо делегации – власти единоличной, единовольной, а поэтому и более сильной, чем какое-либо учредительное собрание – власти самодержавной, которая начинает с этого времени получать более определенное очертание и отличие от понятия абсолютизма, навязываемого ей нередко за последние два века»[133].
Более того, Манифест 17 октября 1905 г. ни в чем не вышел за пределы Манифеста от 6 августа 1905 г., установившего, что «в сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Российской империи о существе самодержавной власти, признали мы за благо учредить Государственную думу и утвердили положение о выборах в Думу…»[134].