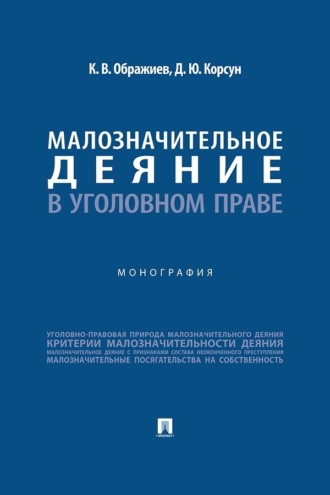
Полная версия
Малозначительное деяние в уголовном праве
Объективно неизбежное противоречие между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) преступления углубляет избыточная криминализация деяний. Оценивая уголовно-правовые нормы на предмет соответствия Основному закону России, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что «федеральный законодатель… обязан избегать избыточного использования уголовно-правовой репрессии»[29]. Однако представители уголовно-правовой науки солидарны в том, что в настоящее время «законодатель использует уголовную репрессию не очень экономно»; «с каждым годом количество деяний, запрещенных под угрозой уголовного наказания, лишь растет; объемы криминализации постоянно увеличиваются». Развивая этот тезис, О. С. Капинус приводит следующие данные: «За время существования УК РФ в его Особенную часть включено 113 новых статей. В результате столь масштабного реформирования уголовного законодательства были криминализованы свыше 100 деяний. Для сравнения укажем, что исключено из Особенной части УК РФ только 10 статей. При этом полностью декриминализовано лишь 2 (!) деяния – оскорбление (ст. 130 УК РФ) и заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ). Таким образом, несмотря на официальные лозунги о либерализации уголовного законодательства, в нем явно прослеживается репрессивный уклон, который проявляется в перманентном увеличении числа уголовно-правовых запретов и сужении уголовно-правовых границ дозволенного поведения»[30]. Соглашаясь с подобными оценками, отметим, что с тех пор, когда были опубликованы процитированные строки, количество деяний, объявленных преступными, лишь увеличилось.
Впрочем, опасения у научной общественности и других институтов гражданского общества вызывают не столько высокие темпы и расширяющиеся объемы криминализации деяний (в определенные исторические периоды подобная уголовная политика может быть оправданной), сколько тот факт, что во многих случаях законодательные решения об установлении уголовной ответственности приняты в отсутствие необходимых предпосылок. В частности, в уголовно-правовой литературе в качестве примера избыточной криминализации приводятся уголовно-правовые запреты, предусмотренные ст. 171.3, 171.4, 200.1, 212.1, 322.2, 322.3, 330.2 УК РФ[31]. В результате возникает феномен так называемого «мнимого преступления», под которым в юридической науке понимается деяние, не обладающее общественной опасностью, но запрещенное уголовным законом под угрозой наказания[32].
Избыточная криминализация деяний проявляется не только в конструировании уголовно-правовых запретов в отношении деяний, не обладающих необходимым уровнем общественной опасности, но и в занижении границ криминообразующих признаков существующих составов преступлений, в необоснованной межотраслевой дифференциации уголовной и административной ответственности. В этом отношении показательным примером является законодательное разграничение уголовно наказуемых хищений и мелкого хищения, образующего административное правонарушение. Напомним, что в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ хищение имущества в форме кражи, мошенничества, присвоения или растраты признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает 2500 рублей и отсутствуют квалифицирующие признаки, предусмотренные ст. 158, 159–159.3, 159.5–160 УК РФ. В результате подобной межотраслевой дифференциации «банальная» кража курицы из курятника, консервированных овощей из погреба, групповая кража бутылки водки, банки консервов, булки хлеба, палки колбасы из магазина признается уголовно наказуемой лишь потому, что она совершена группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) либо с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), т. е. при наличии квалифицирующих признаков. При этом во многих подобных случаях (а их количество измеряется десятками тысяч) общественная опасность содеянного не дотягивает до криминального уровня, вследствие чего правоприменительные органы вынуждены признавать квалифицированные хищения чужого имущества стоимостью менее 2500 рублей малозначительными деяниями. Как показывает практика, именно в этой сфере положения ч. 2 ст. 14 УК РФ применяются наиболее часто.
В условиях избыточной криминализации деяний разрыв между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) увеличивается, что неизбежно повышает «спрос» на применение ч. 2 ст. 14 УК РФ, делает ее очень востребованной. Поэтому количественные показатели применения предписаний о малозначительности деяния, по идее, можно рассматривать как один из индикаторов качества уголовного законодательства и использовать этот индикатор в процессе мониторинга правоприменения. Если на практике малозначительными признаются лишь единичные деяния, предусмотренные составом преступления определенного вида, или ч. 2 ст. 14 УК РФ к определенному деянию вообще не применяется, то это может служить подтверждением того, что законодатель, установив уголовно-правовой запрет, адекватно оценил общественную опасность деяния, что уголовно-правовая норма в целом верно отражает социальную действительность. И, напротив, чрезмерно активное, массовое применение ч. 2 ст. 14 УК РФ к определенной разновидности деяний, признанных преступными, свидетельствует о расхождении законодательной оценки и реальной общественной опасности деяния, показывая тем самым потребность в декриминализации этого деяния (полной или частичной). В массовом порядке расценивая какое-либо уголовно-противоправное деяние в качестве малозначительного, правоприменительные органы посылают «сигнал» законодателю о необходимости изменить его нормативную оценку.
К сожалению, распознать эти сигналы непросто. Основная проблема заключается в том, что в уголовной статистике показатели применения ч. 2 ст. 14 УК РФ не отражаются, поскольку УПК РФ не предусматривает малозначительности деяния в качестве основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования) или отказа в возбуждении уголовного дела. Соответствующие процессуальные решения принимаются на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием состава преступления (подробнее об этом пойдет речь далее), а потому в настоящее время определить долю уголовных дел, прекращенных в связи с малозначительностью деяния, невозможно. Приведенные в юридической литературе оценки масштабов применения ч. 2 ст. 14 УК РФ весьма противоречивы. Например, по данным выборочного исследования, проведенного С. Базаровой, малозначительность выступала основанием к отказу в возбуждении уголовного дела не более чем в 1 % случаев[33]. Исследование Ч. М. Багирова показало другие результаты: ссылки на малозначительность деяния содержат 42 % отказных материалов и 35 % прекращенных на стадии предварительного расследования уголовных дел, а в судебном разбирательстве уголовные дела за малозначительностью прекращаются не более чем в 4 % случаев[34]. В свою очередь, Г. П. Химичева указывает, что в силу малозначительности по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращается до четверти от всех дел, прекращенных за отсутствием состава преступления[35]. Очевидно, что для верификации этих оценок нужны масштабные исследования, охватывающие все субъекты Российской Федерации, что довольно непросто. Но сама по себе идея оценивать качество уголовного законодательства на основе мониторинга показателей применения ч. 2 ст. 14 УК РФ представляется весьма перспективной (она может быть реализована на практике в случае внесения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Завершая параграф, полагаем необходимым подчеркнуть следующее.
1. В дуалистическом определении преступления, сформулированном в ч. 1 ст. 14 УК РФ, изначально заложена идея о том, что преступным признается деяние, которое одновременно обладает как уголовной противоправностью, так и общественной опасностью. Однако это не дает оснований считать предписания о малозначительности деяния избыточными, поскольку ч. 2 ст. 14 УК РФ конкретизирует нормативное определение преступления, адаптирует его для правоприменения. Норма о малозначительности определяет механизм разрешения коллизии между уголовной противоправностью и общественной опасностью деяний, что позволяет перевести абстрактные положения ч. 1 ст. 14 УК РФ в правоприменительную плоскость.
2. Предписания о малозначительности деяния выполняют роль «негативного» признака преступления. Часть 2 ст. 14 УК РФ указывает правоприменителю, что сама по себе уголовная противоправность, констатированная путем установления в деянии всех признаков состава конкретного преступления, не может служить достаточным основанием для признания этого деяния преступным. Таким образом, подчеркивая тесную взаимосвязь формы и содержания, ч. 2 ст. 14 УК РФ ориентирует правоприменительные органы на то, что для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо установить не только противоправность, но и уголовно значимую общественную опасность деяния. Тем самым предписания о малозначительности ограничивают «сферу приложения» уголовно-правовой репрессии, исключая из нее те деяния, которые хотя и имеют внешнее, формальное сходство с преступлением (соответствуют признакам состава какого-либо преступления), но содержательно не являются таковым вследствие отсутствия криминального уровня общественной опасности.
3. В отличие от предписаний ч. 6 ст. 15, ст. 64, 73 УК РФ, которые применяются в случаях, когда индивидуальная общественная опасность преступления отличается от типовой, ч. 2 ст. 14 УК РФ рассчитана на применение к тем деяниям, которые полностью лишены общественной опасности, свойственной преступлениям. Поэтому «исключительные» правила назначения наказания и иные привилегированные уголовно-правовые механизмы не способны заменить предписания о малозначительности деяния, как полагают некоторые специалисты (А. П. Козлов и др.). Это означало бы необоснованное применение уголовно-правовой репрессии (пусть и в «минимально дозированном» объеме) к лицу, которое не совершало преступления, что недопустимо с точки зрения конституционных норм и принципов уголовного права.
4. Несовпадение формы (уголовной противоправности) и содержания (общественной опасности) преступления становится неизбежным в силу диалектического противоречия между абстрактностью уголовно-правовых норм и конкретностью запрещенных ими деяний. Уголовно-правовой запрет отражает определенный вид преступного поведения посредством указания на минимально необходимый объем признаков, однако применяется уголовно-правовая норма к конкретному деянию, обладающему множеством индивидуальных характеристик, которые не могут быть учтены в уголовном законе. Поэтому в реальной действительности конкретное деяние может в силу индивидуальных характеристик (интенсивность посягательства, время, место, обстановка, способ, размер последствий, мотив, цель и т. п.) не обладать криминальной общественной опасностью, хотя по форме оно полностью соответствует абстрактным признакам состава преступления.
5. Противоречие между уголовной противоправностью и общественной опасностью деяния неизбежно в силу отставания консервативной системы уголовно-правовых запретов от динамики социальных отношений. В результате социально-экономических, технологических, политических, культурно-нравственных трансформаций некоторые деяния, признаваемые преступлениями, утрачивают общественную опасность, что обязывает законодателя декриминализовать такие деяния. Пока это противоречие между старой формой (уголовной противоправностью) и новым содержанием (отсутствием уголовно значимой общественной опасности) не разрешено посредством декриминализации деяния, сгладить возникшее противоречие может лишь норма о малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ).
6. Объективно неизбежное противоречие между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) преступления углубляет избыточная криминализация деяний. В условиях избыточной криминализации деяний разрыв между формой (уголовной противоправностью) и содержанием (общественной опасностью) увеличивается, что неизбежно повышает «спрос» на применение ч. 2 ст. 14 УК РФ, делает ее очень востребованной. Поэтому количественные показатели применения предписаний о малозначительности деяния, по идее, можно рассматривать как один из индикаторов качества уголовного законодательства и использовать этот индикатор в процессе мониторинга правоприменения, учитывая при этом, что чрезмерно активное, массовое применение ч. 2 ст. 14 УК РФ к определенной разновидности деяний, признанных преступными, свидетельствует о расхождении законодательной оценки и реальной общественной опасности деяния, показывая тем самым потребность в декриминализации этого деяния (полной или частичной).
1.2. Уголовно-правовая природа малозначительного деяния
В отечественном уголовном законодательстве предписания о малозначительности деяния существуют уже не одно десятилетие. Тем не менее уголовно-правовая природа малозначительного деяния до настоящего времени вызывает множество вопросов, которые не получили должной теоретической проработки. Причем эти вопросы фактически отошли на второй план, поскольку, судя по содержанию имеющихся публикаций, основные усилия уголовно-правовой науки нацелены на решение проблем прикладного характера, связанных с применением ч. 2 ст. 14 УК РФ, с поиском критериев малозначительности деяния. Однако эти, несомненно, важные правоприменительные задачи могут быть удовлетворительно решены только на основе правильного понимания уголовно-правовой природы малозначительного деяния, что задает вектор нашего дальнейшего исследования.
Юридическая природа малозначительного деяния определяется в уголовно-правовой науке весьма неоднозначно. Прежде всего, в теории отсутствует консенсус относительно наличия у малозначительного деяния признаков состава преступления.
Одни специалисты категорично утверждают, что малозначительное деяние не содержит признаков состава преступления[36], что «деяние, не являющееся по закону преступлением, не может содержать в себе признаков состава преступления, это нелогично»[37].
Другие указывают, что малозначительное деяние лишь формально соответствует признакам состава преступления, но фактически не содержит таковых. В частности, эту точку зрения отстаивает Л. Д. Гаухман: «Толкование нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 14 УК РФ, дает основание для вывода о том, что законодатель различает, с одной стороны, формальное и, с другой – фактическое наличие состава преступления. Последнее предполагает наличие в содеянном, во-первых, формально всех признаков состава преступления, что в соответствии со ст. 8 УК РФ является основанием уголовной ответственности, и, во-вторых, общественной опасности, на необходимость которой указано в цитированной ч. 2 ст. 14 данного УК. Следовательно, для наличия в деянии состава преступления необходима совокупность формального и фактического оснований, которыми являются соответственно предусмотренность всех признаков совершенного деяния в уголовном законе и присущность этому деянию общественной опасности. Поэтому отсутствие общественной опасности представляет собой негативный признак состава преступления, наличие которого исключает состав преступления»[38]. В том же ключе рассуждает и Ч. М. Багиров, который указывает, что малозначительное деяние «должно формально содержать признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного УК РФ», но при этом подчеркивает, что «предполагается внешнее сходство, а не тождество признаков»[39].
Наконец, третья группа исследователей усматривает в малозначительном деянии все признаки состава преступления[40], причем эта научная позиция представляется нам наиболее убедительной.
Во-первых, на наличие в малозначительном деянии признаков состава преступления прямо указано в тексте ч. 2 ст. 14 УК РФ. Правда, при этом законодатель использует не очень удачную фразу: «формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом». Слово «формально» здесь явно лишнее, так как оно создает впечатление, что, помимо формального, может быть и фактическое, реальное наличие состава преступления. Однако это не так. Состав преступления – это абстрактная нормативная модель преступления определенного вида, его законодательное описание[41], а значит, соответствие между деянием и составом преступления всегда «формальное»; они соотносятся как явление (деяние) и нормативное понятие о нем (состав преступления).
Во-вторых, если бы малозначительное деяние не соответствовало признакам состава преступления, то не было бы никакого практического смысла в конструировании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В таком случае малозначительное деяние было бы полностью лишено сходства с преступлением, и никаких проблем с их разграничением в принципе бы не существовало. Однако практика не оставляет сомнений в том, что эти проблемы возникают регулярно. И предопределены они именно тем, что малозначительное деяние по форме ничем от преступления не отличается, поскольку то и другое соответствует признакам состава преступления. Если же признаки состава преступления в деянии, ставшем предметом уголовно-правовой оценки, отсутствуют, то его нельзя признать ни преступлением, ни малозначительным деянием.
К сожалению, это принципиальное обстоятельство не всегда учитывается в правоприменительной практике. Сотрудники органов предварительного расследования и суды необоснованно применяют предписания о малозначительности деяния, ссылаясь на ч. 2 ст. 14 УК РФ в ситуациях, когда в деянии изначально отсутствуют признаки состава преступления. Причем подобные ошибки допускаются даже высшей судебной инстанцией, о чем свидетельствуют следующие примеры.
Б. был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ за то, что взял в магазине шнурки стоимостью 18 рублей и один тюбик крема для обуви по цене 36 рублей, не оплатив их. При этом на момент хищения минимальный размер оплаты труда как критерий разграничения уголовно наказуемой и административно наказуемой кражи составлял 83 рубля 43 копейки.
Как отметила Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Б. впервые совершил правонарушение, до этого ни в чем предосудительном замечен не был. Каких-либо вредных последствий его действия для магазина не повлекли, вину Б. признал и полностью раскаялся, занимается общественно полезным трудом и положительно характеризуется как исполнительный и профессиональный сотрудник. Поэтому действия Б. хотя формально и содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ, но в силу малозначительности не представляют общественной опасности[42].
В этом случае ссылка высшей судебной инстанции на ч. 2 ст. 14 УК РФ была явно необоснованной, поскольку в действиях Б. отсутствовал состав уголовно наказуемой кражи; он совершил административное правонарушение – мелкое хищение, а не малозначительное деяние, содержащее признаки состава преступления.
В другом случае Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор нижестоящего суда в отношении Г., осужденной по ч. 1 ст. 330 УК РФ за самоуправство, сославшись на то, что «действия осужденной Г. в силу малозначительности не представляют общественной опасности, так как ими не причинен существенный вред потерпевшей»[43].
Однако отсутствие существенного вреда исключает наличие состава самоуправства. Следовательно, в этом случае суду нужно было ссылаться не на малозначительность деяния, а на отсутствие состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ.
В приведенных примерах деяния, ставшие предметом юридической оценки, не являются преступными вследствие отсутствия признаков состава преступления (уголовной противоправности), но не в силу их малозначительности. А коль скоро деяние не соответствует признакам состава преступления, то положения ч. 2 ст. 14 УК РФ применяться не должны.
К сожалению, в практике Верховного Суда Российской Федерации подобные ошибки отнюдь не единичны[44], а в практике нижестоящих судов и органов предварительного расследования они приобрели массовый характер[45]. По данным нашего исследования, в 24 % процессуальных решений, вынесенных со ссылкой на ч. 2 ст. 14 УК РФ, малозначительным было признано деяние, которое изначально не соответствовало признакам состава преступления[46].
Эти данные в определенной мере подтверждаются результатами проведенного нами опроса: 24,6 % опрошенных правоприменителей полагают, что малозначительное деяние не содержит признаков состава преступления или иного правонарушения, а 34,0 % считают, что малозначительное деяние содержит признаки состава иного правонарушения (административного или дисциплинарного проступка). Усматривают в малозначительном деянии признаки состава преступления менее половины (39,3 %) респондентов (еще 2,1 % экспертов затруднились с ответом). Конечно же, подобные представления практикующих юристов неизбежно проявляются в их правоприменительной деятельности.
Предпосылки подобных ошибок имеют разноплановый характер.
Во-первых, они кроются в неоднозначности формулировок ч. 2 ст. 14 УК РФ, которые допускают различное толкование. Прежде всего, это касается не вполне понятного указания на «формальное» наличие признаков деяния, предусмотренного УК РФ, которое сбивает с толку практиков, применяющих уголовный закон. Поэтому в ч. 2 ст. 14 УК РФ целесообразно четко указать, что малозначительное деяние соответствует признакам состава преступления. В таком случае даже «рядовому» правоприменителю, не обремененному глубокими знаниями в области уголовного и уголовно-процессуального права (не стоит забывать, что решения об отказе в возбуждении уголовного дела нередко принимаются участковыми уполномоченными полиции), будет понятно, что при отсутствии признаков состава преступления предписания о малозначительности применяться не могут.
Во-вторых, правоприменительные ошибки, о которых шла речь выше, обусловлены несогласованностью материально-правовых предписаний о малозначительности деяния с уголовно-процессуальным законодательством (это, пожалуй, основная причина). Статья 24 УПК РФ не предусматривает малозначительности деяния в качестве самостоятельного основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования (отказа в возбуждении уголовного дела). А на практике соответствующие процессуальные решения оформляются со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. в связи с отсутствием состава преступления, несмотря на то что малозначительное деяние полостью соответствует признакам состава. Подобная практика сформировалась на основе решений Верховного Суда Российской Федерации, в которых подчеркивалось, что уголовное дело о малозначительном деянии «не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления»[47].
Обращая внимание на рассогласованность материального и процессуального уголовного права в случае признания деяния малозначительным, И. Э. Звечаровский указывает, что «процессуальное оформление дел по ч. 2 ст. 14 УК РФ со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ стало нормой в судебной практике и, как правило, не вызывает сомнений даже в теории уголовного права. Между тем из содержания ч. 2 ст. 14 УК РФ прямо следует, что в деянии, признанном малозначительным, присутствуют все признаки конкретного состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ»[48]. Это обстоятельство отмечают и другие специалисты, в частности, А. В. Корнеева, которая указывает, что «применение при малозначительности предусмотренного процессуальным законодательством основания прекращения уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления противоречит материальному праву, поскольку малозначительное деяние содержит признаки состава преступления». По ее мнению, сложившаяся правоприменительная практика объясняется тем, что «более соответствующего материальному праву основания прекращения уголовного дела процессуальный закон для случаев малозначительности не предусматривает»[49].
С последним тезисом можно поспорить, поскольку уголовно-процессуальное законодательство предусматривает такое основание отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, как отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). По идее, это процессуальное основание отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела намного больше подходит для малозначительного деяния, ведь в силу прямого указания ч. 2 ст. 14 УК РФ таковое «не признается преступлением». Не случайно некоторые специалисты предлагают при вынесении уголовно-процессуального решения по факту малозначительности деяния ссылаться не на отсутствие состава преступления, а на отсутствие преступления как такового[50]. Впрочем, это предложение не получило практической реализации. В подавляющем большинстве случаев процессуальные решения по малозначительным деяниям принимаются со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ к малозначительным деяниям практически не применяется[51], что подтвердили отпрошенные нами эксперты[52]. По всей видимости, это объясняется тем, что в уголовно-процессуальной науке и судебной практике сформировалась узкая трактовка п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, согласно которой событие преступления отсутствует лишь тогда, когда не было самого факта, о котором сообщалось в государственный орган, уполномоченный возбуждать уголовное дело[53].

