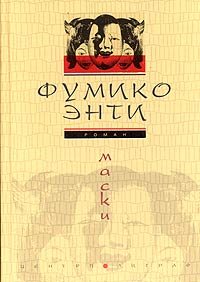Полная версия
Цитадель
– Какая красивая… Ведь это та самая девушка с фотографии, да, матушка? А что она будет делать в нашем доме?
– Она будет помогать твоему отцу, – пряча глаза, ответила Томо.
– Так же, как Сэки?
– Ну-у… Пожалуй…
Почувствовав, что дальше расспрашивать небезопасно, Эцуко отступилась. Томо строго-настрого приказала Ёси молчать, и та держала рот на замке.
Беседуя с матерью Суги, Томо терзалась противоречивыми чувствами. Коротышка-мать с круглым личиком и приплюснутым носом была совсем не похожа на красавицу дочь. Ее явно терзали раскаяние и стыд – ведь она отдавала Сугу ради денег. Мать уповала на Томо, как на единственную опору. От Томо зависело благополучие Суги, а потому она без конца повторяла, что Суга слаба здоровьем, что она нежна и хрупка, и даже поведала, что ее дочь «пока еще не совсем женщина».
– Но госпожа такая великодушная, добрая и хорошая, что теперь мне стало гораздо спокойней, – заключила она в конце разговора. – Даже если Суга не понравится господину, госпожа не позволит ее обидеть, так все говорят…
Все это она умоляющим тоном выложила Кин прямо в присутствии Томо, с такой наивной верой в ее справедливость, что Томо в душе поклялась себе никогда не обидеть Сугу и оградить ее от несчастий, что бы там ни случилось. Она должна, она просто обязана быть в ответе за все – даже за счастье соперницы, которая отберет у нее супруга… При мысли о собственной странной, противоречивой судьбе губы Томо кривились в лишь одной ей понятной усмешке. Только в такие моменты ей удавалось забыться. Только в такие минуты она могла смотреть на все холодно и беспристрастно – на мужа, на Сугу и даже на Эцуко… Вскоре после праздника О-Бон Томо, Эцуко, Ёси и Суга покинули дом Кусуми и отбыли в Фукусиму на четырех рикшах. Суга, в легком летнем кимоно из шелкового газа с лиловым тканым узором и поясом-оби из тяжелого, с блеском, шелка «хаката», первую половину пути проехала в одной коляске с Эцуко, которая нипочем не желала расстаться с новой «игрушкой». Проводив глазами удаляющуюся коляску с девочками, похожими на два прелестных цветка – один побольше, другой поменьше, – Кин и Тоси вернулись в гостиную.
– Она понравилась юной госпоже… Благодарение богу, – сказала Кин, распуская тесемки, поддерживавшие длинные рукава кимоно. Дочь, прихрамывая, подошла к окну и принялась раскладывать шитье.
– Этот господин Сиракава… Он очень дурной человек, – проронила она. – Мне было так жалко всех трех – госпожу, Эцуко и Сугу, – что я не могла сдержать слез…
Тоси промокнула кончиками пальцев уголки глаз и придвинула к себе подставку для шитья.
Глава 2
Зеленый виноград
В давние времена здесь был постоялый двор для заезжих даймё и прочих важных господ. Даже теперь гостиница «Дзёсюя» оставалась лучшей во всей округе. Здесь всегда останавливались видные люди. Сейчас в комнате на втором этаже за доской для игры в го[21] сидели два постояльца. Шторы из зеленого бамбука были подняты, и в комнату врывался прохладный ветерок. На почетном месте восседал главный секретарь префектуральной управы Фукусимы господин Юкитомо Сиракава, напротив – его помощник и подчиненный Оно.
Сиракава считался правой рукой губернатора Митиаки Кавасимы, прозванного в народе Дьяволом. Кавасима был одним из самых влиятельных людей, что стояли за правительством «бакуфу»[22]. В родной префектуре он вызывал такой ужас, что при одном его имени умолкали плачущие дети. В последнее время он возглавил жестокую борьбу с поднимавшим голову Движением за свободу и народные права – «Дзию минкэн ундо»[23].
Сиракава был худ, настолько худ, что его длинная шея буквально болталась в свободно распахнутом вороте летнего полотняного кимоно. Породистый, с горбинкой нос рельефно выделялся на тонком удлиненном лице. Притворно-добродушные глаза временами вспыхивали огнем такого неукротимого бешенства, что становилось ясно – Сиракава маниакально одержим и опасен. И все же сторонний человек вряд ли бы смог распознать в сем импозантном немолодом господине ближайшего соратника дьявола-губернатора.
– Запаздывают… – заметил Оно, сгребая к себе черные шашки. Партия закончилась. Сиракава глубоко затянулся, пыхнув тонкой серебряной трубкой, потом ленивым жестом, не торопясь, вытащил из-за оби золотые часы и пробормотал себе под нос:
– Уже пять… Скоро должны подъехать. Я послал конюха, тот будет ждать на самом въезде в город, так что разминуться не должны…
Однако он не предложил Оно сыграть вторую партию, что говорило о владевшем им чудовищном напряжении. Оно послушно убрал доску для игры в го и придирчиво осмотрел татами[24] – нет ли под доской пыли: он прекрасно знал маниакальную чистоплотность своего господина.
Сиракава приехал в город накануне под предлогом делового визита в управу префектуры Тотиги, соседствовавшей с Фукусимой. На самом же деле цель поездки была совершенно иная – встретить жену и дочь, отсутствовавших больше трех месяцев. Оно уже наслушался от сопровождавшего Сиракаву конюха, что дело тут не только в старой жене и малолетней дочери. Сиракава не поленился доехать до «Уцуномии» еще по одной причине.
– Говорят, она просто изумительная красавица! – возбужденно тараторил конюх. – Вообще-то… наш господин… он странный… Послать жену в Токио с подобным поручением… – Лицо у конюха было совершенно потрясенное.
До Оно и прежде доходили разные слухи о похождениях Сиракавы. Например, говорили, что сам губернатор посоветовал Сиракаве официально взять в дом наложницу или даже двух, если он «намерен продолжать в том же духе», что Сиракава собирается выкупить некую гейшу в каком-то городе Фукусимы, и многое другое. Однако отправить в столицу жену и поручить ей найти любовницу по своему вкусу… Это как-то чересчур. Трусоватый и малодушный Оно придерживался традиционных устоев, так что новость потрясла его до глубины души. У него просто не укладывалось в голове, как могла чопорная госпожа Сиракава пойти на такое – и каково ей было бродить по огромному Токио, подыскивая мужу наложницу! Наверное, жены таких великих людей, как господин Сиракава, тоже способны развить в себе необычайные дарования…
Под окном послышались крики подъехавших рикш. Потом раздался нестройный хор голосов, приветствовавших прибывших гостей. Топот ног по коридору…
– Кажется, они! – вскликнул Оно и трусцой направился к ведущей вниз лестнице.
Только спустя час Томо представила Сиракаве свежую, как бутон нетронутой розы, девушку. Ее волосы были тщательно собраны в девичий пучок «тодзинмагэ».
– Позвольте представить Сугу. Я привезла ее из Токио. Она будет помогать вам в работе, – церемонно произнесла Томо.
До этого Томо и Эцуко лишь коротко поприветствовали Сиракаву, после чего вернулись к ожидавшей их в коридоре Суге. Томо тотчас же отправила обеих девочек мыться. Потом усадила Сугу перед зеркалом и лично поправила растрепавшийся пучок и боковые локоны. Волосы Суги после ванны блестели, как лак. Гребень с трудом продирался сквозь густые пряди, и Томо вновь была ослеплена непорочной белизной чистого, без косметики лица в обрамлении блестящих, отливающих синевой волос. Это она выбрала Сугу, к тому же уплатила за нее изрядный выкуп родителям. А значит, она должна убедить супруга, который хорошо знает толк в женских прелестях, что совершила хорошую сделку и потратила деньги не зря. Прихорашивая и без того красивую Сугу, Томо с каким-то странным, непонятным ей самой чувством наблюдала за Эцуко, которая вертелась у зеркала, любуясь Сугой, как большой куклой, и беззаботно щебетала:
– Какие красивые украшения для волос, мамочка! Право же, они просто прелесть!
* * *– Я мало на что гожусь, господин… Прошу простить меня за это, – пробормотала Суга слова приветствия, припав к полу в низком поклоне, – точь-в-точь, как наставляла ее в Токио мать. Она съежила плечики, обтянутые лиловым кимоно с подколотыми по росту рукавами. Ее принесли в жертву на благо семьи, не объяснив ничего, кроме того, что отныне ей придется верой и правдой служить дому Сиракава, – главным образом, господину. Вот только как именно, не уточнил никто. Не обмолвился даже словом.
– Помни, что ты должна повиноваться господину и не идти против его воли. Что бы ни случилось, – сурово наставляла ее мать перед отъездом, так что сейчас Сугу больше всего страшила перспектива навлечь на себя гнев хозяина дома. Слава богам, за три дня совместной жизни в Киото она подружилась с дочкой хозяина. Да и сама хозяйка, несмотря на провинциальную сдержанность, оказалась совсем не злой. Так что оставалось главное – сам господин, который, как ей сказали, занимал какой-то очень важный пост в префектуре, – чуть ли не главный секретарь управы, второе лицо после самого губернатора… К тому же он намного старше своей жены… Суга дрожала от страха. Что, если сейчас он бросится на нее с упреками, закричит страшным голосом?! В Токио она могла бы сбежать домой, но здесь Фукусима, до Токио много десятков ри[25], и при одной только мысли об этом у Суги сердце уходило в пятки.
– Значит, тебя зовут Суга? Хорошее имя. А сколько тебе лет?
– Пятнадцать, господин.
Суга старательно выговаривала слова, держась изо всех сил. Но по ее лицу было видно, что она вот-вот расплачется. Широко распахнутые глаза под четко вылепленными веками казались неправдоподобно огромными, а слишком густые, словно подведенные брови разительно противоречили растерянному выражению лица, создавая обманчивое впечатление силы, и лицо Суги, освещенное желтоватым светом лампы, казалось странно контрастным, словно у актера на сцене. Ее красота невольно напомнила Сиракаве лицо прославленной куртизанки Имамурасаки, любовавшейся вечерней цветущей сливой в квартале Ёсивара[26] в окружении столь же прекрасных девушек ее роскошной свиты. Это было яркое воспоминание далекой юности…
– Наверное, тебе скучно в нашей глуши после шумного Токио?
– Нет, господин.
– А театр тебе нравится?
– Да, господин.
Тут Суга вся напряглась, не зная, правильно ли она ответила.
– Ты – как наша Томо, – засмеялся Сиракава. – У нас в Фукусиме тоже есть театр. Сейчас там, кажется, выступает заезжий актер из Киото, Токидзо. Я свожу тебя посмотреть на него, когда мы приедем домой.
Хозяин был, похоже, в добром расположении духа. Однако даже ничего не значащая фраза таила для Суги скрытую угрозу, отдаваясь звоном в ушах.
Наконец господин пожелал доброй ночи и отпустил ее восвояси. Только когда Суга в сопровождении Эцуко вышла в коридор, чудовищное напряжение спало.
– Я боюсь, она немного скрытная… – осторожно заметила Томо, проводив Сугу взглядом, и заглянула мужу в лицо. Глаз его были полуприкрыты, но в них угадывался какой-то темный отсвет, как от движения черного водоворота. Томо прекрасно знала это выражение глаз. Оно появлялось у Сиракавы всегда, когда он начинал подбираться к вожделенной добыче. Выражение это напомнило Томо не только ее безмятежно-счастливую юность, но и бесчисленные горестные моменты, когда она беспомощно наблюдала, как загораются этим темным светом глаза супруга при появлении других женщин. У Томо всегда возникало омерзительное ощущение. У нее было такое чувство, будто ее живую плоть пожирают могильные черви.
– Она тихая и послушная. Но это же хорошо! Вот и для Эцуко нашлась подружка…
В тоне Сиракавы сквозило деланое безразличие, однако его взгляд не отрывался от детских движений бедер Суги, когда та, придерживая длинные рукава кимоно, резко встала и вышла из комнаты. Движения были точно такие же, как давным-давно у четырнадцатилетней Томо, которую мать Юкитомо пригласила «поиграть» к ним в дом. В них сквозило что-то почти мальчишеское, свидетельствующее о том, что Суга еще не сознает своей привлекательности. При этом ее лицо, плечи и грудь были уже по-женски округлы, и это открытие привело Сиракаву в еще большее возбуждение. Он просил жену найти невинную девушку, которая прислуживала бы и хозяйке. Но сейчас ему даже стало неловко: уж слишком ревностно Томо выполнила данное ей поручение и нашла сокровище, превосходившее все ожидания, – бутон с плотно сжатыми лепестками.
– Говоришь, ее родители держат лавочку упаковочных материалов?
– Да, в Кокутё. Прежде дела у них шли весьма недурно, но из-за негодяя работника они почти разорились. Я беседовала с ее матерью. Весьма приличная, добропорядочная женщина. – Тут Томо вдруг подумала, что пора сказать мужу об оставшейся части тех денег, что он вручил ей на расходы. Она потратила пятьсот иен на выкуп и на приданое для Суги. Часть суммы ушла на смотрины многочисленных гейш и учениц гейш, а также девиц из приличных семейств и полупрофессионалок, с которыми ее сводили посредники до появления Суги, но даже при этом она сэкономила половину, если не больше. Сначала Томо намеревалась вручить деньги мужу, как только переступит порог. Теперь она вновь попыталась поговорить об этом, однако по какой-то необъяснимой причине слова точно в горле застряли, – и она опять ничего не сказала. Томо вся вспыхнула. Но Сиракава ничего не заметил и хлопнул в ладоши, подзывая Оно.
– Оно-кун![27] Неси сюда доску, а то мы не доиграли. Томо! Завтра рано вставать, так что тебе лучше выспаться на первом этаже.
Томо бросила косой взгляд на крепкую коротенькую фигуру Оно, который раскладывал посредине комнаты доску для игры в го, и встала. Опасный огонь, вспыхнувший в глазах мужа, придал ему новое, незнакомое обаяние, к тому же они не виделись целых три месяца… Однако супруг не призвал Томо к себе. Томо была еще молода, едва за тридцать, и такое явное небрежение уязвило ее не только морально, но и физически. Она и сама не могла бы сказать, что означает неистовый жар, пылавший в ее груди, – жгучую ненависть или безумную страсть, – однако твердо решила не показывать слабости и медленно прошествовала по коридору с бесстрастным, как маска театра Но, лицом…
* * *Суге, выросшей в шумном Токио, Фукусима показалась почти пустыней, а магазины с полупустыми полками – нищенскими и безлюдными. Резиденция Сиракавы располагалась кварталах в шести от префектуральной управы, на улице Янаги Кодзи. В старину это была самурайская усадьба с длинным крытым въездом и боковыми пристройками, с высокими, как в храмах, верандами и огромными пустынными залами.
Через распахнутые настежь сёдзи[28] гардеробной виднелся сад, где росли персимоны, яблони, груши, виноград. Рядом буйно пестрели всеми оттенками зелени огород и поля.
Дома Томо ждало новое потрясение: за время ее отсутствия к усадьбе пристроили крыло. Это был отдельный флигель с тремя комнатами, выходивший прямо в сад на солнечную, южную сторону, окруженный круговой верандой. Дом источал благоуханный аромат свежесрубленного кипариса. С главной усадьбой флигель соединяла крытая галерея.
– Плотники явились, как только госпожа уехала! – со странным выражением лица сообщила горничная Сэки. С ней Сиракаву тоже связывали не вполне формальные отношения, Сэки даже просила у Томо за это прощения.
Заглянув во флигель, Томо увидела следующую картину: посреди комнаты стояло новое зеркало на подставке из шелковичного дерева, на него была наброшена алая креповая накидка с кремовым узором. В соседней гардеробной в шесть татами красовался новый комод. У Томо даже глаза округлились.
– И постельные принадлежности тоже с иголочки! – негодующе заметила Сэки, раздвигая створки встроенного шкафа. Внутри, на верхней и нижней полках, на подстилках из шелковых фуросики[29] цвета бледно-зеленых, едва распустившихся почек, с изысканным узором из виньеток лежали два пухлых, свеженабитых ватой матраса, одно ватное одеяло и одно стеганое ночное кимоно из тисненого золотисто-желтого шелка в клетку. Рукава кимоно с пунцовым отливом были уютно сложены вместе.
– Это чья комната? – удивленно спросила пришедшая с Томо Эцуко, повернув к матери свое белое удлиненное личико.
– Твой отец построил новый флигель, чтобы работать здесь с деловыми бумагами, – резко ответила Томо. – А теперь ступай, милая!
Она словно гнала Эцуко прочь. Нет, она не должна допустить, чтобы этот кошмар, что угрожал погубить ее жизнь, разрушил еще и жизнь дочери! Однако для Эцуко беспредельное отчаяние матери выглядело иначе. Мать нужно бояться. И девочка вприпрыжку побежала по коридору – прочь от Томо. Она искала компанию поприятнее, например, красивую Сугу, словно источавшую сладостный аромат.
– Прикажете постелить господину здесь прямо сегодня? – спросила Сэки, так и впиваясь глазами в Томо.
– А… Да, пожалуй.
– А Суге-сан? В соседней комнате?
– Пусть постелет себе сама.
Томо постаралась придать лицу безразличное выражение, однако при мысли о том, что в груди Сэки бушует точно такой же пожар, она невольно перевела глаза в сад. Ее затопило чувство стыда.
В саду, в тени зубчатых зеленых листьев, под вьющимися виноградными лозами стояли Эцуко и Суга. Суга была одета в летнее юката с белым узором на темно-синем фоне. Она подняла кверху руку, видимо, по просьбе Эцуко, легонько касаясь свисавшей над ее головой бледно-зеленой грозди. Солнечный свет, просачивавшийся сквозь увитую виноградной лозой шпалеру, придавал коже Суги нежный зеленоватый оттенок.
– Как же их можно есть – ведь они такие зеленые?
– Попробуй, очень вкусно! Это европейский сорт.
Звонкий голосок Эцуко доносился очень четко.
Суга сорвала гроздь и положила в рот похожую на зеленый сапфир ягоду.
– Ну что, сладко?.. Саженцы нам прислали с опытной сельскохозяйственной станции.
– Вправду сладко… Первый раз вижу сладкий зеленый виноград!
Радостно улыбаясь друг другу, девочки отрывали зеленые виноградины и отправляли их в свои коралловые ротики. Сейчас Суга, на людях такая взрослая и сдержанная, казалась невинным ребенком, почти ровесницей Эцуко. Глядя на ее чистое, беззаботно улыбающееся лицо, на расслабленные движения, Томо не могла избавиться от видения: ей мерещились спрятанные за створками фусума[30] желтые постельные принадлежности…
Это было подло. Это было дурно. Отдать девочку, которой впору в куклы играть, многоопытному, познавшему все пороки этого мира мужчине – вдвое старше ее! Родители знали правду и поощрили сделку. Ведь если не Сиракава, то кто-то другой… Все равно пришлось бы продать юную плоть Суги в обмен на благополучие семьи. Суга так непорочна и ослепительно красива, что была обречена с самого начала. Ее все равно продали бы – не сюда, так в другое место. В другие руки. Рано или поздно. Томо испытала невольное чувство вины за то, что пособничала мужу в чудовищном злодеянии. Все ее существо восставало против происходящего, словно желудок отказывался принимать мясо птицы, убитой на ее глазах, – пусть даже убила ее не она… Ну почему, почему ей приходится быть участницей этой жестокости, столь же подлой, как работорговля?!
Рассматривая прохладную кожу Суги, словно излучавшую белизну только что выпавшего снега, глядя в ее черные, огромные, влажные, всегда широко распахнутые, словно от затаенной тревоги глаза, Томо испытывала странное чувство – невольную жалость к великолепному животному, которого ведут на заклание, и в то же время острую ненависть к сопернице, что в один прекрасный момент превратится в чудовище, пожрет ее мужа и ураганом промчится по дому, круша все на своем пути…
* * *На другой же день после их возвращения в Фукусиму в усадьбу зачастили торговцы из мануфактурного дома «Маруя». Почти каждый день они приходили с тюками тканей всех сортов и оттенков и раскладывали их в гостиной. Обычно они заявлялись под вечер, к возвращению Сиракавы из управы и заваливали всю огромную гостиную отрезами, чтобы хозяин мог сам посмотреть и сделать выбор. Сиракава покупал ткани и для Томо с Эцуко тоже, однако главной его заботой была, конечно же, Суга. Он словно подбирал приданое для невесты, предусматривая все, что может понадобиться юной жене. Летние и зимние официальные кимоно с фамильным гербом и пущенным по подолу рисунком, узорчатые двойные пояса на подкладке… Отрезы шелкового газа, жатого шелка… Драгоценное тончайшее полотно, шелковый креп и даже алые нижние длинные кимоно. Суга ужасно смущалась из-за того, что к ней, обычной служанке, которая ничего еще не умеет, относятся, как к почетной гостье. Новые кимоно не радовали ее, она скорее испытывала смутное беспокойство. Однако это лишь еще сильнее разжигало затаенный огонь в глазах Сиракавы.
– Суга! Накинь на плечо вон тот отрез лилового газа и приложи поверх оби в горошек. А теперь отойди и покажись! – командовал он, и его впалые щеки розовели от приливающей крови, как в те минуты, когда он впадал в ярость. Суга повиновалась, робея. Заученным жестом дочери торговца, к тому же профессиональной танцовщицы, привыкшей носить сценические костюмы, она накидывала на плечи недошитое кимоно, потом повязывала оби и принимала соответствующую позу, яркая и ослепительная, как красавица с гравюр Кобаяси Киётики[31]. Сидевшие в зале торговцы из дома «Маруя» и домочадцы невольно вскрикивали от восхищения.
Больше всех восторгалась Эцуко, не отходившая от Суги ни на шаг. Белая и тонкая, изящная, словно юная цапля, Эцуко казалась еще изысканней и утонченней, стоя рядом с нераспустившимся пионом – Сугой.
– Для Эцу возьмем белый отрез с узором из листьев хаги[32]. А к нему алый пояс, – заметил Сиракава, повернувшись к Томо.
Непривычная для Сиракавы оживленность и отсутствие всякой стыдливости у застенчивой от природы Суги сказали Томо все. Ее супруг еще не успел добраться до девочки. Для того чтобы завоевать столь юное существо, даже ему, похоже, требовалась особая тактика – не такая, которую он использовал, соблазняя гейш или служанок. Нарядить в роскошные одежды ребенка из бедной семьи – это, возможно, и впрямь верный способ покорить девичье сердце… Наблюдая за мужем краешком глаза, Томо вдруг вспомнила, как Сиракава во время поездок присылал из провинции ей, тогда совсем юной жене, собственноручно выбранные украшения для причесок и кимоно.
* * *Сиракава слов на ветер не бросал. Пообещал Суге сводить ее в театр – и слово сдержал. Почти каждый вечер в лучших ложах единственного в Фукусиме театра «Титосэ-дза» восседала женская половина семьи Сиракава – Томо, Эцуко, Суга и несколько служанок. Суга в летнем кимоно с пунцово-кремовой в белый горошек жатой лентой поверх оби бросалась в глаза даже среди расфранченных дам, переполнявших зал, и актеры в гримерной только и обсуждали, что ее прелести: «Говорят, это молодая жена господина главного секретаря, он недавно привез ее в Фукусиму. Какая красотка!.. Вы только взгляните на ее лицо – точь-в-точь, как у старинных красавиц с картин “осиэ”![33]»
Активисты Либеральной партии, считавшие Сиракаву своим заклятым врагом, при виде Суги приходили в неистовство. Еще бы, ведь это Сиракава разгонял их подпольные сборища и бросал в тюрьму главарей движения! «Такие подонки лишают народ элементарных человеческих прав, а сами осыпают роскошью продажных девок! Позор для страны!» – бесновались они. Но ни Суга, ни Эцуко, разумеется, не замечали устремленных на них горящих ненавистью глаз. Томо же безоговорочно верила словам собственного мужа и жены губернатора: те, кто бунтует против власти чиновников, которым сам император своим высочайшим указом повелел денно и нощно печься о благе государства, – это подонки; они мутят народ бреднями о «правах человека» и заслуживают такого же строгого наказания, как разбойники и поджигатели. Воля императора и чиновников была для нее законом, точно так же как впитанная с молоком матери мораль: жена да повинуется мужу и господину своему, сколь бы абсурдны ни были его приказания. Томо родилась в глухой провинции Кюсю в конце правления «бакуфу» и едва умела читать и писать, так что этот кодекс был для нее своего рода щитом от житейских бурь и невзгод.
В театре каждый вечер давали новую пьесу. Однажды, как только они вошли в ложу, Эцуко начала хныкать, что ей страшно. На сей раз пьеса была про привидения – «Ужасное происшествие в Ёцуя[34]». На сцене то и дело гас свет и раздавались таинственные скрипы и звуки. Пьеса «Происшествие в Ёцуя» имела бешеный успех у любителей ужасов, и потому ее частенько ставили в летний сезон[35].
– Не бойтесь, госпожа, – успокаивала Эцуко Суга, – как только появится привидение, мы с вами вместе зажмуримся!
Как ни странно, Суга была совершенно спокойна и не отрывала глаз от сцены. «А в Суге есть стержень – подумалось Томо. – Девчонка-то не робкого десятка…»
После пролога и сцены в храме богини Каннон, вслед за убийством отца героини О-Ива начиналась любимая Томо часть спектакля: служанка Иэмона – мужа главной героини – расчесывала О-Ива волосы. Пряди выпадали одна за другой. Томо так увлеклась пьесой, что даже перестала смотреть по сторонам.
На сцене на фоне желтовато-зеленой москитной сетки сидела несчастная О-Ива, прижимавшая к груди младенца. Ее изможденное лицо было все еще прекрасно, хотя недавние роды были слишком тяжелыми. О-Ива жалобно роптала на свою несчастную долю: пошатнулось здоровье и охладел супруг. Она без конца твердила о том, как ей хочется перед смертью увидеться с младшей сестрицей, чтобы отдать ей подарок покойной матушки – гребень. Иэмон увлекся другой девушкой, жившей по соседству, и мечтал поскорее избавиться от надоевшей жены. Родня соседки послала О-Ива якобы чудодейственное снадобье, на самом же деле – отраву. Яд должен был обезобразить ее, чтобы Иэмон не терзался сожалениями, бросив жену. О-Ива доверчиво приняла подарок и, не чуя подвоха, каждый день с благодарностью пила яд. Томо смотрела на сцену с душевной мукой, несколько раз она даже зажмурилась, чтобы унять пульсировавшую в висках кровь. Ей была так понятна и так знакома наивная доверчивость героини, безжалостно преданной самыми близкими людьми… Любовь, достигнув своего апогея, охладевала, катясь к неизбежному концу – к ледяному аду. Как легко угадывалось сходство О-Умэ, укравшей у жены Иэмона, с наложницей Сугой, как был похож холодный, жестокий, но такой привлекательный Иэмон на ее Юкитомо!.. А сама О-Ива, после чудовищного предательства превратившаяся в мстительного духа зла, напоминала Томо… Томо не отрывала от сцены глаз. Жуткие эпизоды мести О-Ива следовали одна за другой. Эцуко все дрожала от страха и словно в шутку закрывала ладошками глаза, а потом отключилась от происходящего и уснула, уткнувшись лицом в колени Суги. Томо пришлось нести на руках ее обмякшее, отяжелевшее тельце до коляски рикши.