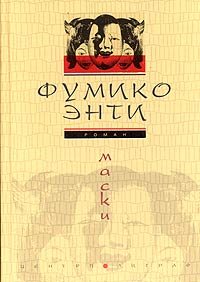Полная версия
Цитадель
Потому-то, наверное, Томо выглядела немолодой, многоопытной и умудренной, хотя ей только-только исполнилось тридцать. Не красавица, но вполне привлекательная Томо истово заботилась о своей наружности, так что вряд ли можно было сказать, что она увяла до срока. Однако нечто неуловимое – то ли врожденная сдержанность, то ли тяжкое бремя долга, – погасило в ней дразнящую зрелую чувственность, присущую женщинам ее возраста, так что сам Сиракава не раз поражался житейской мудрости женщины на добрый десяток лет моложе его. Временами жена казалась ему старшей сестрой. Впрочем, ему-то было прекрасно известно, какая горячая, обжигающая, словно горящее масло, кровь течет в жилах Томо. Внешняя холодная невозмутимость только скрывала это. О, он знал ее сдержанный жар, столь похожий на раскаленное солнце их родного Центрального Кюсю. Однажды ночью, когда Сиракава еще служил в Ямагате, к ним на ложе пробралась под москитную сетку змея. Проснувшись от внутреннего толчка, Сиракава ощутил прикосновение к голой коже чего-то влажного и холодного. В недоумении он провел по груди рукой – и липкая струйка вдруг потекла через пальцы.
Сиракава вскочил с диким криком. Томо тоже проснулась и резко села. Поднеся к постели стоявшую в изголовье лампу, она увидела на плече у мужа тонкий черный шнурок, отливавший жирным, маслянистым блеском.
– Змея! – успел выдохнуть Сиракава, – и в то же мгновенье рука Томо непроизвольно метнулась вперед. Она перевалилась через Сиракаву, спотыкаясь, выбежала на веранду и вышвырнула скользкую гадину в темный сад. Ее била крупная дрожь, однако от обнаженной груди, белевшей в распахнутом вороте кимоно, от обнаженной руки исходила поистине животная мощь, которую Томо обычно скрывала от окружающих.
– Зачем ты выбросила ее? – недовольно пробурчал Сиракава, лишенный мужской прерогативы проявить силу. – Нужно было убить эту тварь!
Жар, исходивший от Томо, буквально ошеломил его, раздавил своей силой, – и с той ночи все было кончено между ними. Сиракава просто не мог заставить себя смотреть на жену как на объект сексуального вожделения. Сила Томо превосходила его и потому рождала чувство неловкости и смущения.
– Люди станут говорить о нас дурно, если мы открыто объявим девчонку наложницей, – заявил он Томо. – Пусть она будет у нас служанкой. Хотя бы для вида… И тебе пусть прислуживает тоже… В самом деле, мысль недурна – взять в дом девушку, которая будет присматривать за хозяйством, когда ты делаешь визиты. Ты же можешь вышколить ее, как тебе надо. Я не желаю портить репутацию семьи, поэтому решил не брать в дом гейшу. Так что полагаюсь на твой выбор. Ты прекрасно все устроишь сама. Найди и привези мне юную, по возможности, невинную девочку. У тебя прекрасный вкус. Вот, возьми, это тебе на расходы.
И Сиракава положил перед Томо такую толстенную пачку денег, что у нее округлились глаза.
До сих пор, слыша подобные речи от подчиненных мужа, она умудрялась делать вид, что ничего не происходит. Но теперь муж сам поднял тему, и уклониться от разговора было решительно невозможно. Откажись она – и муж сам приведет в дом избранницу. Во фразе «Полагаюсь на твой выбор» заключалось косвенное признание главенства Томо в семье Сиракава. Это странное доверие терзало душу Томо всю дорогу до Токио, до самого дома Кусуми, пока Эцуко и Ёси беззаботно радовались жизни, покачиваясь в коляске рикши, и предвкушали столичные развлечения.
* * *– Я поняла, – сказала Кин. – У меня есть одна знакомая женщина… Она держит галантерейную лавочку и частенько посредничает в подобных делах… Я попрошу ее заняться вашим вопросом без отлагательств.
Кин перевела разговор в деловое русло, искусно избегая болезненных для Томо душевных нюансов. Она родилась в семье купцов фудасаси[10] и неплохо знала нравы, царившие в семьях дворян и богатых торговцев в конце Сёгуната[11], так что отнюдь не была шокирована услышанным. Мужчина, достигший успеха, был вправе взять в дом наложницу или даже двух. Это добавляло веса всему семейству, возвышало в глазах окружающих, так что к ревности законной супруги частенько примешивалась толика чванливого самодовольства.
Ночью, когда мать и дочь уже лежали в постели, Кин поведала Тоси обо всем этом, понизив голос и бросая опасливые взгляды на потолок, отделявший ее от гостей. Она была так уверена в правоте своих представлений, что удивилась, когда дочь с печальным вздохом проговорила:
– Бедная женщина… Вот вы, матушка, заметили, что за прошедшие годы в госпоже прибавилось достоинства… Что она стала просто великолепна. А мне отчего-то кажется, что это достоинство страдания. Я вся просто похолодела, когда госпожа вошла в дом…
– Страдания всегда сопутствуют богатству, так уж заведено в этом мире, – беспечно заметила Кин. – Как бы то ни было, я помогу ей найти хорошую девочку с добрым сердцем. Господин Сиракава сказал, что предпочел бы совсем неопытную… Но сойдет и хангёку[12], если она еще не потеряла невинность…
* * *В резиденции Сиракавы комнаты были большие, стылые, как в огромном храме, и в них всегда царила гробовая тишина. Маленькая Эцуко пришла в восторг от своей веселой комнатушки на втором этаже в доме Кин: перед ее глазами без устали катила вольные воды широкая Сумидагава, и целый день оттуда несся скрип весел и неумолчный плеск волн. Когда Ёси бывала занята, Эцуко проворно выскальзывала через заднюю дверь на улицу и мчалась к причалу. Она зачарованно смотрела на неспешное движение вод; лизавших сваи под ее ногами, вслушивалась в гортанные крики лодочников на проплывавших баржах. Время от времени в перекрестьях закрывавшей окно деревянной решетки возникало бледное лицо Тоси:
– Осторожнее, барышня, не упадите в воду! – кричала она.
В тот день Кин, как обычно, вместе с Томо отправилась в город.
– Не извольте беспокоиться! – смеялась Эцуко. – Не упаду!
Правильные, четкие черты лица и изящно очерченный овал придавали ей до странности взрослый вид. Маленький пучок, повязанный пунцовой лентой, разительно контрастировал с недетским выражением лица и выглядел просто обворожительно.
– Подойдите сюда, – позвала Тоси. – У меня для вас кое-что есть!
– Иду! – послушно откликнулась Эцуко, направляясь к окну. Ее длинные рукава в алую полоску развевались на бегу. На маленьком клочке земли под окном росли вьюнки «асагао». Кин ухаживала за ними, как за детьми, и пять-шесть тонких стеблей тянулись вверх, обвиваясь вокруг бамбуковых колышков. Сейчас, когда Эцуко заглядывала в комнату с улицы, все казалось совершенно иным – и сама комната, и лицо Тоси, и шитье, разложенное у нее на коленях… Тоси продела через решетку худую руку и повертела перед Эцуко сшитой из красного шелка маленькой обезьянкой. Обезьянка была набита ватой.
– Какая прелесть! – Эцуко вцепилась пальчиками в прутья решетки. Она не отрывала глаз от плясавшего на шнурке игрушечного зверька. На ее лице сияла такая беспечная улыбка, что Тоси невольно отметила, что ребенок совсем не скучает по матери.
– А куда ушла ваша матушка? – поинтересовалась она у Эцуко, продолжавшей дергать обезьянку за шнурок.
– По каким-то делам… – ясным голоском отозвалась Эцуко.
– Вы, верно, скучаете, когда ее нет дома?
– Да-а, скучаю, – вежливо протянула Эцуко, но глаза у нее оставались такими же безмятежными. – Но у меня же есть Ёси!
– Ах да, ну конечно, – кивнула Тоси. – У вас же есть Ёси… А матушка всегда занята в Фукусиме?
– Да, – таким же чистым и звонким голоском сказала Эцуко. – У нас много посетителей…
– Хлопотно, наверное… А батюшка часто в отлучках?
– Да. Целый день сидит в канцелярии, а вечером его приглашают в разные места. Бывает, и домой гости приходят, так что я частенько вообще не вижу его весь день! Ни разочка!
– О-о… А сколько у вас служанок?
– Три… Ёси, Сэки и Кими. А еще есть мальчик-слуга и конюх.
– Большое хозяйство! Матушка, должно быть, целый день в заботах.
Тоси отложила иголку и улыбнулась. Она вспомнила о девице, которую Томо должна найти в Токио и привезти домой. Интересно, какие перемены принесет она в жизнь Эцуко?
* * *Примерно в это же время Томо и Кин встречались в чайном павильоне с мужчиной-гейшей[13] по имени Сакурагава Дзэнко. Они сидели на втором этаже заведения, дававшего напрокат лодки. Оно называлось «Удзуки» и стояло на берегу Сумидагавы в районе Янагибаси.
Предоставив Томо роль хозяйки встречи, Кин предпочла скромно держаться в тени. Настоящая фамилия Дзэнко была Хосои, он происходил из семьи хатамото[14], однако жизненные обстоятельства вынудили его опуститься до нынешнего занятия. Тем не менее при всей его несколько чрезмерной общительности Дзэнко нельзя было назвать назойливым или вульгарным, вид он имел изысканно-щеголеватый и разговаривал со старой знакомой Кин непринужденно и естественно, без слащавой манерности, свойственной людям его профессии.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Токонома – стенная ниша с приподнятым полом в традиционном японском доме. В токонома принято ставить вазу с икебаной, вешать свиток с картиной или каллиграфической надписью.
2
Хибати – вид жаровни для обогрева помещения в японском доме.
3
Фуро – ванна в японском доме. Традиционно представляла собой высокую кадку, наполненную очень горячей водой. Фуро принимали сидя.
4
Хаори – накидка японского покроя, принадлежность парадного, выходного японского женского и мужского костюма. Существуют также дорожные хаори.
5
Даймё – крупный феодал, богатый и влиятельный феодальный князь в эпоху Токугава, или Эдо (1603–1867). Слово «даймё» существовало и в другие эпохи, например, в Хэйан, Камакура, Муромати и т. д., однако имело несколько иные нюансы.
6
Богиня Каннон – богиня милосердия в буддийском пантеоне.
7
Авасэ – кимоно на легкой подкладке.
8
Дзабутон – плоская подушка для сидения на полу в японском традиционном доме.
9
Реставрация Мэйдзи – буржуазная революция в Японии. Реформы, начавшиеся в 1868 году, привели к коренным изменениям в экономике, политике, культуре и социальных отношениях. Они носили буржуазный характер и способствовали превращению Японии из феодальной страны в капиталистическую. Реставрация Мэйдзи положила конец эпохе правления военных правителей (сёгунов) и восстановила власть императора.
10
Купцы фудасаси – купцы-комиссионеры (по получению рисовых пайков – жалованья низшим вассалам) в период Токугава. Занимались обращением в деньги рисовых пайков, а также ростовщичеством.
11
Конец Сёгуната – конец эпохи Токугава (Эдо), во время которого Японией правили сёгуны – военные правители, стоявшие во главе военной ставки «бакуфу». Начало токугавскому сёгунату было положено в 1603 году, когда Иэясу Токугава был провозглашен первым сёгуном и объявил своей столицей Эдо (современный Токио), находившийся в центре его восточных провинций. Эпоха сёгуната закончилась с началом Реставрации Мэйдзи.
12
Хангёку – гейша-ученица.
13
Мужчина-гейша – актер и своего рода «менеджер» на пирушках с гейшами. В его обязанности входит организация развлечения гостей и исполнение их прихотей.
14
Хатамото – непосредственные вассалы сёгуна.