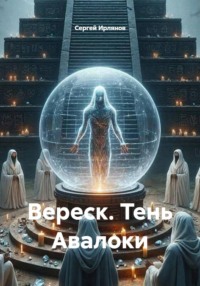Полная версия
Вереск. Мысли в тени
Ариадна ждала его на улице, стоя около электрокара. Она была одeтa в лёгкое платье из натурального льна, её волосы были собраны в аккуратный пучок. На лице – привычная полуулыбка.
– Сегодня в «Ноосферу», – сказала она, когда он подошёл.
Они сели в бесшумный электрокар, и через несколько минут подъехали к внушительному зданию. Университет «Ноосфера» поражал не техногенным блеском, как «Прогресс», а монументальной, почти храмовой архитектурой. Огромный белоснежный купол, опоясанный спиралевидной галереей, символизировал, по замыслу Кирьянова, бесконечный путь познания. У подножия купола расходились лучи учебных корпусов, утопающих в зелени атриумов и внутренних дворов. Здесь не было давящей стерильности – царила атмосфера светлого, насыщенного мыслями пространства.
– Это не просто учебное заведение, – пояснила Ариадна, ведя Максима по широкой мраморной лестнице. – Это центр генерации идей. Здесь учат не запоминать, а мыслить. Не принимать, а сомневаться. По крайней мере, так было задумано.
Внутри, Максим ощутил особую акустику – ровный, наполненный интеллектуальной энергией гул. Студенты группами и поодиночке перемещались по просторным холлам, оживленно беседуя у экранов, на которых сменялись формулы, тексты и схемы. Повсюду были расставлены кресла-коконы, пуфы и мягкие диваны, где можно было уединиться с планшетом или просто подумать.
Ариадна провела для Максима небольшую экскурсию. Они заглянули в лабораторию когнитивных исследований, где студенты в нейроинтерфейсах строили виртуальные миры; прошли через огромную библиотеку с физическими книгами – дань уважения Кирьянова к традициям науки; посетили один из корпусов, целиком отданный под художественные мастерские.
– Здесь нет экзаменов в привычном смысле, – продолжала Ариадна. – Есть проекты, дебаты, публичные защиты идей. Успех студента измеряется не оценками, а способностью предложить новое решение, поставить неудобный вопрос, заставить других пересмотреть устоявшиеся взгляды.
Она провела Максима в аудиторию, где ему предстояло читать лекцию. Помещение было светлым и просторным, с высокими потолками и панорамными окнами, выходящими во внутренний сад. Студенты уже собрались. Их лица были ясными, заинтересованными.
– Они ждут вас, – тихо сказала Ариадна, остановившись у двери. – Не как гуру, а как коллегу. Не забывайте: здесь ценят не авторитет, а аргумент.
Максим кивнул и вошёл. Аудитория замерла, затем раздались тёплые, но сдержанные аплодисменты. Он подошёл к трибуне, оглядел собравшихся и начал говорить – не о цифровом тоталитаризме, как планировал, а о свободе мысли как высшей ценности цивилизации. О том, что сомнение – не слабость, а признак живого ума.
Студенты слушали внимательно, кивали, делали заметки на планшетах. А когда он закончил, поднялся один из них – яркий, очевидно одарённый юноша с пронзительным взглядом.
– Максим Леонардович, вы говорите о диалектике как двигателе прогресса. Но не является ли конфликт идей пережитком архаичной, «внешней» модели общества? Здесь, в «Вереске», мы достигаем синтеза не через конфликт, а через кооперацию на основе общих ценностей. Разве это не более эффективный путь?
Максим почувствовал легкое головокружение.
– Эффективный – возможно, – осторожно ответил он. – Но где тогда рождается новое? Где место для прорывной, безумной идеи, которая по определению конфликтует с общепринятой?
Студент улыбнулся вежливой, снисходительной улыбкой.
– Прорывная идея рождается в условиях концентрации ресурсов и ума, а не в условиях хаоса. Евгений Сергеевич предоставляет и то, и другое. Нам не нужно бороться – нам нужно творить.
Его ответ был безупречно логичен. И от этого становилось немного не по себе.
После лекции Ариадна провела его по университету. Они заглянули в библиотеку – огромное светлое пространство, где физические книги соседствовали с голографическими терминалами. Прошли мимо лабораторий, где студенты моделировали социальные процессы на компьютерных симуляторах. Заглянули в «Сад идей» – внутренний двор, где на траве под открытым небом проходили неформальные семинары.
– Здесь всё устроено так, чтобы мысль могла дышать, – сказала Ариадна, остановившись у фонтана в центре двора. – Но даже здесь… даже здесь есть границы. Невидимые, но очень прочные.
– Какие границы? – спросил Максим.
Она посмотрела на него поверх очков.
– Те, за которые не стоит выходить, если хочешь остаться в «Ноосфере». Или вообще в «Вереске».
Она не сказала больше ни слова. Но Максим понял. «Ноосфера» была не свободой мысли, а её идеально отлаженным питомником. Здесь выращивали умные, послушные идеи, которые не угрожали системе. А дикие, бунтарские мысли – те, что рождались в хаосе настоящего мира, – здесь не приживались. Их просто не замечали. Или аккуратно удаляли, как сорняки.
Они молча шли по залитому солнцем атриуму, и это молчание было красноречивее любых слов. Максим чувствовал, как в нем зарождается холодный ком разочарования. Он почти физически ощущал невидимые стены, ограничивающие мысль в этом «храме познания».
Именно в этот момент из-за поворота галереи появилась знакомая прямая, как штык, фигура в строгом мундире. Полковник Орлов. Он шел навстречу им неспешным, мерным шагом, и его появление показалось Максиму дурным предзнаменованием – словно суровый страж явился проверить, не заразил ли гость своей крамолой местных студентов.
– Максим Леонардович. Ариадна, – Орлов кивнул им с холодной, отточенной вежливостью. Его глаза, скользнув по Ариадне, остановились на Максиме. – Евгений Сергеевич интересуется впечатлениями. Как вам наша «Ноосфера»? Надеюсь, экскурсия была познавательной.
Голос его был ровным, но в нем слышалась не просьба, а требование.
– Более чем познавательной, – ответил Максим, стараясь, чтобы его собственный голос не дрогнул. – Впечатляет масштаб. И… подход к образованию.
– Подход проверен временем, – сказал Орлов. – Система работает. Она дает прочные знания и, что важнее, правильные ориентиры. Мы растим не просто специалистов. Мы растим граждан. Людей, которые понимают ценность того, что имеют.
Ариадна стояла чуть поодаль, ее лицо было невозмутимым, но Максим заметил, как ее пальцы тревожно постукивают по планшету.
– Ценность, основанная на незнании альтернатив, – хрупкая ценность, – осторожно заметил Максим.
Орлов усмехнулся.
– Альтернативы – это грязь, болезни и смерть. То, от чего мы ушли. – Он сделал паузу, его взгляд стал тяжелым и пронзительным. – «Вереск» – это цитадель. А цитадель рано или поздно штурмуют. И мы должны быть готовы к этому штурму.
Эти слова, сказанные спокойным, почти бесстрастным тоном, прозвучали в тихом атриуме громче любого крика. Они повисли в воздухе, как окончательный приговор. Это была не философия Кирьянова, с его сложными сомнениями. Это была простая, железная доктрина солдата, для которого весь мир делился на своих и чужих.
– А ваша философия сможет защитить от пуль, Максим? – бросил Орлов и не прощаясь развернулся, чтобы уйти.
Максим смотрел ему вслед, и в душе впервые за всё время зародилось не просто сомнение, а острое, леденящее предчувствие: за красотой «Вереска» стояла не только система, но и человек, готовый защищать её любой ценой. Даже ценой самой идеи, ради которой все это создавалось.
В следующие дни Максим и Ариадна проводили вместе всё больше времени, и с каждым часом между ними возникало что-то новое – не просто доверие, а почти интуитивное понимание друг друга. Они гуляли по паркам «Вереска», где аллеи были выложены идеально подогнанными каменными плитами, а деревья, подстриженные в геометрические формы, отбрасывали на землю причудливые тени. Воздух здесь был наполнен ароматом цветущих магнолий и лёгким, почти незаметным запахом озона – как будто сама природа подчинялась неким скрытым правилам.
Однажды, в Библиотеке им. Леонардо да Винчи – огромном светлом пространстве, где физические книги соседствовали с голографическими терминалами, – Максим изучал труды по истории утопических сообществ. Ариадна молча наблюдала за ним, время от времени предлагая тот или иной источник.
– Вам, наверное, стоит обратить внимание на этот раздел, – ее голос прозвучал ровно, но в нем угадывался какой-то иной оттенок. Она указала на полку с книгами, посвященными критике тоталитаризма. – Здесь собраны все классические работы. Каталогизированы и тщательно изучены. Как вирусы в лаборатории. Изучать можно, бояться нечего.
Максим посмотрел на нее, пытаясь понять подтекст.
– Вы невысокого мнения о силе идей, – предположил он.
– Я невысокого мнения о силе идей, помещенных в стерильный бокс, – поправила она его, и ее взгляд на мгновение стал острым, как лезвие. – Идея, лишенная права на борьбу, становится просто экспонатом. Музейным экземпляром.
Их разговоры всегда были подобны фехтованию – парирование, укол, отступление. Она никогда не говорила прямо, но ее замечания, всегда точные и ироничные, оставляли в сознании Максима чувство легкого ожога и щемящего любопытства.
Как-то раз, гуляя по ботаническому саду, где под куполом росли орхидеи невероятных расцветок, Максим спросил ее:
– Ариадна, вы так… проницательны. Почему вы работаете здесь? В «стерильном боксе»?
Она остановилась у пруда с карпами кои, ее лицо было невозмутимым.
– Где же еще историку философии изучать утопию, как не внутри нее? – она бросила в воду щепотку корма, и вода взорвалась золотыми всплесками. – Здесь можно воочию наблюдать, как абстрактная идея обретает плоть, кровь и… систему тотального наблюдения. Это бесценный опыт для аналитика.
– Но вы же не просто наблюдатель, – настаивал Максим, чувствуя, что стоит на краю чего-то важного.
Она посмотрела на него поверх очков, и в ее глазах мелькнула тень усталого вызова.
– Нет? А кто я, по-вашему? Мятежник? Диссидент? Нет, Максим Леонардович. Я – ваш официальный проводник, назначенный полковником Орловым. Моя задача – помогать вам. И я помогаю. Я показываю вам все, что вы хотите увидеть. – Она сделала паузу. – А вы? Вы задаете вопросы или ищете готовые ответы для своей идеологии?
Максим не нашелся что ответить. В тот момент он и сам не знал ответа. Он был очарован сияющим ковчегом.
Неделя в «Вереске» пролетела как один длинный, ясный и невероятно насыщенный день. Максим Леонардович постепенно втягивался в ритм города, который был похож на идеально отлаженный метроном. Его дни были расписаны поминутно: лекции, встречи с учеными, посещение производственных кластеров. И неизменно рядом была Ариадна – его тень, его проводник и живое воплощение той двусмысленности, что скрывалась за безупречным фасадом.
Сегодняшним утром она предложила не стандартный маршрут в капсуле, а пешую прогулку в новый жилой сектор «Гармония», который только что ввели в эксплуатацию.
– Лучше один раз увидеть, как растет эта гармония изнутри, чем сто раз услышать о ней в докладе, – сказала она, и в ее глазах мелькнула все та же неуловимая искорка иронии.
Они шли по широкому бульвару, названному в честь Циолковского. Воздух, как всегда, был кристально чист и обладал удивительной, почти весенней свежестью, хотя за пределами долины, как знал Максим, вовсю бушует непогода.
– Здесь очень комфортная температура, – заметил Максим, глядя на группу детей, игравших в незнакомую ему интеллектуальную игру на площадке из мягкого, упругого материала, меняющего цвет в зависимости от давления. – У вас здесь свой собственный климат? Как вам удается держать эту… вечную весну?
Ариадна кивнула, указывая на едва заметные решетки в мощении тротуара и на вершинах стилизованных фонарей, от которых исходил едва уловимый поток теплого воздуха.
– Климат – это наш самый большой и самый невидимый проект. Над ним работает целый институт. Физического купола нет, но есть его энергетический аналог. – Она остановилась, подбирая слова, словно пытаясь объяснить квантовую механику ребенку. – Представьте себе сеть из тысяч когерентных генераторов, расположенных по периметру долины и на ключевых высотных доминантах. Они создают стабилизированное энергополе – своего рода невидимый купол.
– Это поле выполняет несколько функций, – продолжила она, видя его интерес. – Во-первых, оно экранирует долину от внешних ветров и циклонов, формируя собственную, мягкую атмосферную циркуляцию. Во-вторых, оно действует как гигантский ионизатор и фильтр, осаждающий пыльцу, аллергены и загрязнения. В-третьих, и это самое сложное, генераторы в режиме реального времени компенсируют теплопотери, выравнивая температуру. Вы не замечаете, но на улице всегда +21, плюс-минус полградуса. Зимой – +21, летом – тоже.
– Но откуда энергия? На такие системы нужны гигантские мощности, – не удержался Максим.
– Геотермальные станции на разломах под нами дают базовую энергию. Их дополняют компактные термоядерные реакторы нового поколения – «Игнисы». Их всего четыре, они расположены на глубине полукилометра и работают в замкнутом цикле. Безотходно и безопасно. Этого более чем достаточно для жизни города и поддержания климата. Дождь, кстати, тоже запланирован. Раз в десять дней, ночью, для полива и очистки атмосферы. Искусственный, чистейший, нужной кислотности и температуры.
Максим молча переваривал услышанное. Создание своего климата – это пахнуло уже не технократией, а чем-то божественным, титаническим.
– Идиллично, – произнес он, и в его голосе прозвучала непроизвольная нота скепсиса.
– С точки зрения физиологии и агрономии – безусловно, – парировала Ариадна. – С точки зрения личного опыта… Ливень, промочивший ноги, или внезапный снегопад тоже могут быть ценным переживанием. Напоминанием о стихийности мира. Но здесь мы предпочитаем предсказуемость. Контроль.
Они свернули в тихий переулок. Здесь, среди зелени скверов, располагались жилые дома. Они не были однообразными, каждый имел свой архитектурный изыск, но все они подчинялись общему правилу гармонии и функциональности. И повсюду были дети. Их было много. Невероятно много для современного мира. Они играли в садах при домах, катались на велосипедах по специальным дорожкам, собирались небольшими группами для совместных уроков под открытым небом.
– Демографическая политика? – тихо спросил Максим, наблюдая, как молодая женщина с младенцем в слинге непринужденно беседует с другой, пока их старшие дети что-то увлеченно строили из экологичного конструктора.
– Естественное следствие, – поправила его Ариадна. – Когда у людей есть уверенность в завтрашнем дне, доступное жилье, лучшая в мире медицина, полная занятость и отсутствие экономических тревог – рождаемость перестает быть проблемой. Она становится нормой. Большие семьи здесь – стандарт. «Вереск», поощряет это.
В этот момент над ними с мягким жужжанием пролетел плоский дрон-курьер, напоминающий ската. Он точно завис над одним из домов, сбросил в приемное окно на крыше аккуратный контейнер и плавно улетел по своему маршруту.
– Логистика, – пояснила Ариадна, следуя за его взглядом. – Никаких грузовиков, пробок и выхлопных газов. Все доставки – дроны и подземные пневмопочты. Товары народного потребления, книги, еда из ресторанов, даже медикаменты. Все рассчитано до секунды.
– А если кому-то захочется просто побродить по магазинам? Посмотреть товар вживую? – поинтересовался Максим.
– Есть демонстрационные залы и шоу-румы. Можно примерить, потрогать, пообщаться со стилистом или консультантом. Но сам процесс покупки – через каталог. Это исключает спонтанные, ненужные траты и опять же экономит самый ценный ресурс – время.
Они вышли к огромному парку, который, как пояснила Ариадна, был одновременно рекреационной зоной и частью агрокомплекса. Здесь не просто росли деревья, а были разбиты террасные грядки, где зрели овощи и ягоды. За ними ухаживали не люди, а изящные, похожие на пауков, дроны-агрономы. Одни с помощью сенсоров сканировали почву, другие с ювелирной точностью опрыскивали растения, третьи – собирали урожай в подъезжавшие сами собой тележки.
– Вся агрикультура вертикальная и гидропонная, – рассказывала Ариадна, и в ее голосе впервые прозвучали ноты неподдельного, профессионального интереса. – КПД с гектара в десятки раз выше, чем при традиционном земледелии. Ни пестицидов, ни зависимости от сезонов. Свежие продукты – круглый год. И это не индустриальные помои, а полноценная, сбалансированная еда, обогащенная всеми необходимыми элементами.
Максим наблюдал за этой идеальной жизнью. Технологический уклад был поразителен. Роботы-уборщики бесшумно скользили по улицам, поддерживая стерильную чистоту. Умные фонари регулировали освещенность в зависимости от времени суток и наличия людей. Даже скамейки в парке, как заметил Максим, были оснащены биометрическими датчиками – стоило присесть, как мягкий голос предлагал настроить под себя жесткость сиденья, температуру или даже запустить режим медитации.
– Это… – он искал нужное слово, – тотальная забота. От колыбели до… – он запнулся.
– До самого конца, – закончила за него Ариадна, и ее лицо снова стало непроницаемым. – Система сопровождает человека на всем протяжении жизни, предугадывая его потребности и купируя проблемы до их возникновения. Это и есть высшая форма гуманизма, не так ли? Избавить человека от всего, что причиняет боль, неудобство или тревогу.
– Избавить или лишить? – не удержался Максим. – Лишить возможности ошибиться, промокнуть под дождем, купить какую-нибудь безделушку просто потому, что она понравилась… Лишить права на непрактичность? На глупость? На спонтанность?
Ариадна остановилась и посмотрела на него поверх очков. В ее взгляде было что-то древнее, мудрое и печальное.
– Максим Леонардович, а вы сами готовы промокнуть под дождем, заболеть, потратить последние деньги на безделушку и потом мучиться от последствий? Готовы ли вы к этой «спонтанности» для себя лично? Или это красивая абстракция, которую вы готовы обсуждать в аудитории, но не готовы принять в своей жизни?
Он не нашелся что ответить. Она попала в точку. Его собственная жизнь в Москве была образцом рациональности и предсказуемости. Он ненавидел хаос так же сильно, как и Кирьянов, просто видел другие пути его обуздания.
– «Вереск» – это выбор, – мягче сказала Ариадна, продолжая путь. – Осознанный выбор тысяч людей в пользу предсказуемого благополучия. Они голосуют за это своими детьми, своей работой, своей лояльностью. Ваша задача – не осуждать этот выбор, а понять его философскую основу. Облечь его в форму, которая будет убедительна не только для них, но и для внешнего мира. И для вас самих.
Они вышли на смотровую площадку на холме. Отсюда «Вереск» был виден как на ладони – идеальный круг, разбитый на сектора, пронизанный серебристыми нитями дорог и бирюзовыми прожилками каналов. Город-медальон. Город-сад. Город-машина.
Максим смотрел на него, и его охватывало странное чувство. Восхищение гением инженерной и социальной мысли смешивалось с леденящим душу ужасом. Это был рай, но рай, из которого не было выхода. Рай, в котором не было места Богу, потому что его роль уже давно и безупречно выполнял «Улей». И он, Максим Леонардович Кашинский, должен был стать новым евангелистом этой религии. Проповедником, который и сам не знал, верит ли он.
Глава 4: Ужин с последствиями
Приглашение было передано не через официальные каналы «Улья», а старомодно – запиской, переданной из рук в руки в тихом уголке библиотеки. Ариадна молча сунула Максиму сложенный листок и удалилась. Внутри было аккуратно выведено: «Сегодня. 19:00. Улица Садовая, 17. Не пользуйтесь капсулой, дойдите пешком. Ужин.»
Сердце Максима забилось чаще. Это был не просто дружеский жест. Это было что-то заговорщическое. Он выполнил просьбу, наслаждаясь редкой возможностью просто идти, а не перемещаться с комфортной скоростью. Дом Ариадны оказался таким же, как и все в этом квартале – уютным, с черепичной крышей и вьющимся по стене виноградом. Но на окнах не было стандартных smart-стекол, а висели обычные тканевые занавески.
Его встретил запах жареной картошки и специй – на удивление простой, почти бунтарский на фоне идеально сбалансированной кухни «Вереска».
Ариадна, без своего каждодневного строгого пиджака, в домашнем платье и фартуке, выглядела нежной, но не менее собранной.
– Проходите, Максим Леонардович. Лев! Гость пришел!
Из глубины дома послышались быстрые шаги, и в гостиную вышел подросток. Лет шестнадцати, худощавый, с бледным лицом, не видевшим много солнца, и густыми темными волосами, падавшими на глаза. Он был одет в простую темную футболку с каким-то пиксельным принтом, изображавшим старого дракона из ретро-игры. Но главное – его глаза. За большими, чуть увеличивающими линзами очков скрывался не подростковый скепсис, а интерес, всепоглощающий, аналитический огонь. Он смотрел на Максима не как на гостя матери, а как на интересный набор данных.
– Лев, это Максим Леонардович, тот самый философ, о котором я тебе рассказывала. Максим, мой сын, Лев.
– Здравствуйте, – голос у Льва был тихим, но четким, без тени робости. Он пожал руку Максима сухим, твердым рукопожатием.
Ужин был простым и вкусно обыденным: жареная картошка с грибами, салат из овощей с их собственной грядки, домашний квас.
– Протест против пищевого конвейера, – усмехнулась Ариадна, заметив его вопросительный взгляд. – Иногда хочется чего-то настоящего, с дымком, а не стерильного питательного коктейля.
За столом речь зашла о лекциях Максима, о университете. Лев слушал внимательно, почти не ел, изредка задавая точечные вопросы о кибернетических моделях общества и этике искусственного интеллекта. Было ясно, что его интересуют не абстракции, а системы, алгоритмы, механики управления.
– Вы говорите о свободе воли как об аксиоме, – вдруг сказал он, отодвигая тарелку. – Но что если это иллюзия? Что если нами управляют сложные, но предсказуемые паттерны, которые можно смоделировать? И тогда «свобода» – это просто ощущение от работы алгоритма, который мы не осознаем.
– Лев, – мягко остановила его Ариадна.
– Нет, это интересно, – Максим почувствовал, как завязывается самая важная беседа за вечер. – Ты говоришь об «Улье»?
Лев посмотрел на мать, будто спрашивая разрешения. Та молча кивнула, ее лицо стало серьезным.
– «Улей» – это не просто соцсеть или система безопасности, – Лев понизил голос, хотя в доме, очевидно, не было никаких камер и датчиков, он сам позаботился об этом. – Это гигантская машина коллективного разума. Она не приказывает. Она… предлагает. Создает условия. Она знает о каждом из нас больше, чем мы сами о себе.
– И как же она этого добивается? – спросил Максим, чувствуя, как по спине бегут мурашки.
– Она собирает данные. Все. Не только наши лайки и сообщения. Биометрию с браслетов здоровья, паттерны потребления в столовых, время, проведенное в разных частях города, маршруты передвижения, даже микровыражения лиц с камер на улицах и в транспорте. Все это сливается в единый профиль.
Он встал и принес свой планшет, запустив на нем какую-то самописную программу с минималистичным интерфейсом.
– Я… нашел лазейку. Не во внешний интернет, он наглухо заблокирован. Внутрь самой системы. Я не могу менять данные, только считывать. Смотрите.
На экране появился аватар одного из студентов, с которым Максим говорил в университете. Рядом – графики, цифры, проценты.
– Вот его индекс лояльности. 98.7%. Высший балл. А вот его социальный рейтинг. Он растет после посещения лекций Кирьянова и падает после прочтения книг из «сомнительного» раздела библиотеки. Вот карта его эмоционального состояния. Всплеск тревоги здесь – он получил «четверку» на экзамене. Всплеск удовлетворения здесь – его похвалил «Садовник» после беседы.
Максим смотрел на эти цифры, и ему становилось дурно. Это было похоже на вскрытие еще живого, дышащего человека.
– И… и у всех так?
– У всех, – тихо подтвердил Лев. – Просто у кого-то индекс лояльности 70%, и тогда «Садовники» уделяют ему больше внимания. Проводят «профилактические беседы». Предлагают пройти курсы нейрокоррекции для «снятия тревожности» и «повышения социальной адаптивности».
– Боже правый, – вырвалось у Максима. – Это же тотальный контроль. Не явный, а… предупредительный. Они не наказывают за проступок, они не дают ему совершиться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.