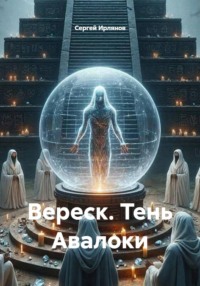Полная версия
Вереск. Мысли в тени
Дорога до аэродрома пролетела в молчании. Его провели через отдельный терминал, где строгие, но вежливые сотрудники службы безопасности быстро оформили все документы, даже не заглядывая в его паспорт – система уже знала его в лицо.
Максим почувствовал, как его охватывает странное ощущение. С одной стороны, его восхищало, как отлажено всё работает: ни очередей, ни бюрократии, ни лишних вопросов. Но с другой – это было пугающе. Система знала его в лицо. Она знала всё о нём. Он вспомнил свои лекции о цифровом тоталитаризме, о том, как технологии могут превратиться в инструмент контроля. А что, если он сам сейчас становится частью этой системы? Что, если он уже не исследователь, а подопытный?
За стеклом терминала на лётном поле стоял не просто частный самолёт. Это был огромный, стремительный лайнер, больше похожий на правительственный. Максим смотрел на этот лайнер – воплощение власти и безграничных возможностей – и чувствовал себя не гостем, а посылкой. Ценной, но посылкой. Его везли не туда, где он хотел быть, а туда, где его хотели видеть. У трапа его ждал тот самый молодой человек, Артём. Он улыбался вежливо, а его глаза оставались холодными и расчётливыми, как у человека, который выполняет свою работу, не задавая лишних вопросов. Максим вдруг подумал, что, возможно, он уже переступил ту грань, за которой нет возврата. Он вспомнил свою дочь Софью, бывшую жену, своих студентов. Все они остались там, в Москве, в мире, который был хаотичным, но знакомым. А он летит в неизвестность.
– Максим Леонардович, добро пожаловать на борт.
Максим поднялся по трапу. Стильный салон личного лайнера Кирьянова был воплощением минимализма и роскоши: кожаные кресла, раздвигающиеся в полноценное ложе, приглушённый свет, тихая классическая музыка. Стеллаж с книгами, но не для показухи – Максим узнал труды по квантовой механике, биоэтике, философии сознания. Здесь чувствовался интеллект, а не просто деньги.
– Пожалуйста размещайтесь, где Вам удобно. Все в вашем распоряжении, – Артем указал рукой на кресла и на барную стойку.
Кресло самолета было очень удобное, но Максим не мог расслабиться. Он сидел, сжимая в руках стеклянный бокал с минеральной водой, и смотрел в иллюминатор. Полет длился уже около двух часов. Внизу проплывали бескрайние леса и хребты Урала, а затем – плоская, однообразная равнина Западной Сибири. Его старый мир остался далеко позади. Старый мир. Москва. Его лекции, его статьи, его критика. Все это теперь казалось ему детской игрой. Он критиковал систему, не имея ни малейшего представления о том, как она может выглядеть, когда ее строят не политики, а гении. Он чувствовал себя наивным мальчишкой. Его прежние слова, его гнев, его убеждения – все это было так… мелко.
Мысли путались. Он вспоминал споры в курилках, как иронизировал над «кирьяновцами» – технократическими утопистами, верящими, что можно алгоритмизировать счастье. «Алгоритмизировать счастье». Он всегда считал это абсурдом. Счастье – это хаос, это риск, это боль и разочарование. Это несовершенство. А что, если Кирьянов прав? Что, если все эти годы он, Максим, был просто романтиком, цеплявшимся за иллюзию свободы.
И сквозь этот шум пробивалась более тёмная, более личная нота. Образ отца. Леонард Кашинский. Его сломанные очки, его яростные заметки на полях книг. Его последний, незавершённый труд – «Психопатология технократического спасения». Максим хранил черновики. Он перечитывал их иногда, чувствуя смесь стыда и восхищения. Стыда – потому что считал отца параноиком, потерявшим связь с реальностью. Восхищения – потому что тот видел угрозу там, где другие видели лишь прогресс.
Отец писал о «Программе СОЗ» – секретной инициативе по созданию «управляемого человека», о группе учёных, одержимых евгеникой и нейроконтролем. Он в ярости говорил о каком-то «Сергеевиче», самом влиятельном и самом опасном из них, который ушёл в тень, прихватив с собой наработки. Писал, что тот «играет в Бога, не ведая о морали». А потом… скоропостижная смерть. Официальная причина – обширный инфаркт. Но отец был здоров как бык. И его последний звонок Максиму… сбивчивый, полный ужаса: «Макс, они не остановятся. Они… они нашли способ… лечить инакомыслие. Стирать его. Как ошибку…»
Максим всегда отмахивался от этого, списывая на старческую паранойю. Но теперь, глядя на сияющий интерьер самолёта человека по фамилии Кирьянов, он чувствовал ледяную руку страха на своем плече. Евгений Сергеевич Кирьянов. Совпадение? Или… ответ на вопрос, который он боялся задать сам себе все эти годы?
«Они нашли способ лечить инакомыслие».
Слова отца гудели в его ушах громче гула турбин.
Максим закрыл глаза. Если отец был прав… если Кирьянов действительно нашел способ «лечить» инакомыслие… тогда «Вереск» – это не утопия. Это лаборатория. А он, Максим, не философ, а подопытный кролик, которого везут прямо в клетку. Его пригласили не для того, чтобы он критиковал, а для того, чтобы он легитимизировал. Чтобы его имя, его репутация диссидента прикрыли собой чудовищную правду. Он не создавал идеологию. Он подписывал себе смертный приговор – смертный приговор своему «я».
Посадка в аэропорту где-то в сибирской глуши была тихой и без суеты. Ни службы безопасности, ни паспортного контроля. Только новая группа встречающих в тёмных костюмах и вертолёт с гербом «Вереска» на хвосте – стилизованным цветком вереска.
И снова полёт. Теперь – вглубь бескрайней тайги. Давление закладывало уши, и монотонный гул винтов отзывался тяжестью в висках. Максим вглядывался в землю, пытаясь разглядеть хоть что-то в зелёном месиве лесов и болот. И вдруг он увидел это.
Сначала на фоне хаотичной зелени появился ровный, идеальный круг. Затем проступили контуры кварталов, бирюзовые пятна водоёмов, серебристые нити дорог. Город. Совершенно новый, которого не было ни на одной карте. «Вереск».
Сердце Максима учащённо забилось. Это было восхитительно и пугающе одновременно. Совершенство геометрии, врезанное в дикую, непокорную природу, словно знак абсолютного человеческого превосходства.
Его переход из хаотичного, душного мира начала двадцатых в «Вереск» напоминал не переезд, а религиозное вознесение.
Город не просто располагался в долине – он был вписан в неё, как драгоценный камень в оправу из зелёных холмов. Симметричные кварталы с терракотовыми черепичными крышами тонули в зелени садов. Меж домов, подобно бирюзовым нитям, струились каналы с кристально чистой водой, по которым бесшумно скользили небольшие прогулочные катера. Воздух, даже на высоте, был поразительно свеж и пах цветущими яблонями и свежескошенной травой. Ни намёка на смог, на пыль, на привычный городской гул. Тишину нарушало лишь мягкое жужжание дронов-курьеров, размеренно сновавших между зданиями, словно пчёлы в гигантском улье.
Вертолёт с почти неслышным гулом приземлился на замаскированную под газон площадку в центре города. Когда дверь открылась, на Максима пахнул воздух, обладающий почти вкусовыми качествами – чистый, прохладный, с лёгкими нотами хвои и цветов.
Кирьянов встретил Максима у вертолетной площадки. Человек с обветренным лицом яхтсмена и пронзительными, всевидящими глазами капитана дальнего плавания. Его рукопожатие было твердым, но не показным.
«Ну что, Максим Леонардович, как вам наша скромная обитель?» – раздался спокойный, приятный баритон.
Евгений Сергеевич был спокоен и гостеприимен. На нём был простой, но безупречно сидящий костюм. Он не производил впечатления владельца целого мира. Скорее, он выглядел как мудрый и немного усталый хранитель величайшего сокровища.
– «Скромная обитель»? – Максим Леонардович не смог сдержать восхищённого смешка. – Евгений Сергеевич, это город-сад из старых футуристических романов. Я читал, но реальность превосходит любые описания.
Он произнес это с такой интонацией, что каждое слово казалось правдой. Город был прекрасен. Но в тот же момент его разум кричал: «Это может быть ловушка! Самая красивая, самая уютная, самая безжалостная ловушка!»
– Небольшая прогулка после перелета? – предложил Кирьянов, и в уголках его глаз собрались лучики морщин, смутно напоминающие улыбку.
Максим согласился. Их прогулка началась с жилых кварталов – аккуратных, почти игрушечных домиков, построенных в стиле модернизированного неоклассицизма, с колоннами из светлого мрамора и высокими окнами, утопающими в пышных розах и гортензиях. Каждый дом был окружён небольшим, но безупречно ухоженным садом, где цвели розы и гортензии, а газоны казались настолько ровными, будто их подстригали по линейке. Воздух был наполнен лёгким ароматом жасмина и свежескошенной травы. На лужайках играли дети. Их смех был звонким и беззаботным. По улицам возвращались с работы люди. Они не выглядели усталыми. Их лица были спокойными и позитивными. Одежда на них была простой, но безупречно чистой и аккуратной.
– Вы видите их? – тихо спросил Кирьянов, следуя за взглядом Максима. – Они не бегут в переполненную поликлинику или на вторую работу. Они идут домой. У них есть время. Самое ценное, что только можно вернуть человеку. Мы здесь просто… оптимизировали реальность. Убрали лишнее.
«Убрали лишнее». Максим смотрел на этих счастливых, увлеченных людей и думал о том, что «лишним» для Кирьянова могло быть всё, что мешало его видению. Свобода мысли. Право на ошибку. Право на бунт. Право на разочарование.
– Внешний мир называет это порабощением, – осторожно заметил Максим. – Говорят, вы купили их свободу комфортом.
Кирьянов остановился у фонтана, где струи воды танцевали под тихую, мелодичную музыку.
– Свобода, Максим Леонардович… Интересный концепт. Свобода выбирать из тридцати видов колбасы, произведённой на одном комбинате? Или свобода каждое утро часами стоять в пробке? – Он мягко взмахнул рукой, указывая на чистые, просторные улицы. – Я предлагаю альтернативу. Не тиранию порядка, как вам, наверное, кажется. А освобождение от тирании бессмысленного выбора и системного хаоса. Здесь человек свободен для – для творчества, для семьи, для саморазвития. Всё остальное – вопрос техники.
Они вышли на центральную площадь. Здесь не было рекламных билбордов. Вместо них на фасадах зданий проецировались сменяющиеся изображения – шедевры мировой живописи, цитаты великих философов.
– Вы предлагаете заменить рынок – музеем? – уточнил Максим.
– Рынок – это тоже музей, – парировал Кирьянов с лёгкой иронией. – Музей человеческих пороков и сиюминутных желаний. Я просто сменил экспозицию на более… возвышенную.
Им навстречу шла молодая женщина с детьми. Увидев Кирьянова, она не засуетилась, не стала заискивать. Она просто улыбнулась ему тёплой, искренней улыбкой.
– Доброго дня, Евгений Сергеевич.
– Доброго дня.
Когда они прошли, он повернулся к Максиму:
– Вот она, идеология. Не в лозунгах. А в этой улыбке. В уверенности, что завтра будет таким же светлым, как сегодня. Вера в то, что гигантская, отлаженная машина города работает на твоё благо. Люди верят в то, что работает. Моя задача – чтобы это работало безупречно. Ваша – помочь им понять, почему это работает и почему это – хорошо.
Они зашли в один из научных центров. Чистые, светлые залы, заполненные сосредоточенными людьми. Никакой суеты, никакого начальственного окрика.
– Здесь разрабатывают лекарства от самых страшных болезней, – без тени хвастовства сказал Кирьянов. Видите их лица? Они увлечены. Они счастливы. Потому что им не нужно бороться за гранты, унижаться перед чиновниками. Они просто делают свое дело. Я просто убрал с их пути всё лишнее.
В этот вечер, за ужином в скромном, по меркам миллиардера, кабинете с видом на заходящее солнце, окрашивающее город в золотые тона, Максим Леонардович был глубоко потрясён.
– Вы знаете, – начал Кирьянов, отламывая кусок хлеба, – я давно ужинаю в одиночестве.
Максим кивнул, чувствуя, как напряжение нарастает. Город за окном сиял, как драгоценный камень, но теперь этот блеск казался ему холодным, почти бездушным.
– Ваш город… – Максим подбирал слова, – он поражает. Но я не могу избавиться от ощущения, что за этой красотой скрывается нечто другое. Что-то, чего я пока не понимаю.
Кирьянов отпил воды, его взгляд скользнул по панорамному окну, где в темноте сияли огни «Вереска».
– Красота всегда имеет свою цену, – сказал он тихо. – Вопрос в том, готовы ли мы её платить.
– А какая цена у «Вереска»? – Максим почувствовал, как по спине пробежал холодок.
Кирьянов медленно повернулся к нему. В его глазах была только усталость.
– Вы видели сегодня наш город. Вы видели, как здесь живут люди. Они счастливы. Они в безопасности. – Он сделал паузу. – Но счастье – это не просто отсутствие проблем. Это ещё и отсутствие сомнений.
– Вы боитесь, что люди начнут сомневаться? – Максим напрягся.
– Я боюсь, что они перестанут верить, – поправил его Кирьянов. – А без веры любой рай превращается в тюрьму.
Максим посмотрел на него, пытаясь понять, что скрывается за этими словами. Кирьянов не говорил прямо, но в его голосе звучала тревога.
– Вы пригласили меня сюда не просто так, – сказал Максим. – Вы хотите, чтобы я помог вам укрепить эту веру.
Кирьянов кивнул, его взгляд был тяжёлым.
– Я хочу, чтобы вы помогли нам найти слова. Слова, которые объяснят людям, почему они здесь. Почему этот порядок – не ограничение, а возможность. – Он отпил ещё глоток воды. – Вы критик, Максим Леонардович. Вы видите то, что мы перестали замечать. Возможно, вы сможете найти то, что мы потеряли.
Максим почувствовал, как внутри него борются восхищение и сомнение. С одной стороны, он видел гений этого места, его красоту и гармонию. С другой – он чувствовал, что за этой гармонией скрывается нечто более сложное, возможно, даже опасное.
– Я не знаю, смогу ли я помочь, – сказал он наконец. – Но я постараюсь понять.
Кирьянов кивнул, и в его глазах мелькнуло облегчение.
– Это всё, о чём я прошу, – ответил он тихо.
Они доели ужин в молчании, каждый погружённый в свои мысли. Максим чувствовал, как на него давит груз ответственности. Он понимал, что стоит на пороге чего-то огромного, но не знал, к чему это приведёт. Кирьянов же смотрел на город, который сам и создал, и в его глазах читалась не гордость, а глубокая, почти физическая усталость.
В ту ночь, засыпая в невероятно комфортном и современном гостевом доме, под убаюкивающий шепот климат-контроля, Максим Леонардович почти поверил. Почти. Где-то на задворках сознания, под слоем восхищения и лести, шевелился червь сомнения.
Он лежал в темноте и думал о Москве. О шуме транспорта, о постоянной суете и шуме, о бесконечной человеческой толпе в метро. Все эти «неидеальные» звуки и запахи теперь казались ему драгоценными. Это была жизнь. Настоящая, грязная, непредсказуемая. А здесь? Здесь была только тишина и идеальная, безупречная чистота. Он закрыл глаза, пытаясь уснуть, но в его голове эхом раздавался один и тот же вопрос: «Что я наделал?».
Глава 3: Куратор
Жизнь Максима Леонардовича Кашинского в «Вереске» обрела ритм, одновременно насыщенный и умиротворяющий. Ему предоставили просторный, светлый дом на одной из тихих улочек, выходящих к искусственному озеру. Каждое утро он просыпался не от воя будильника, а от мягкого солнечного света, льющегося в панорамные окна, и тихого перезвона, оповещающего о начале нового дня. Воздух всегда был свеж, будто после грозы.
Город, рассчитанный на шестьсот тысяч человек, поражал своей продуманностью. Он был разделен на кластеры: жилые кварталы, научные центры, аграрные зоны, производственные хабы. Связывала их не общественный транспорт в привычном понимании, а сеть автоматических капсул, двигавшихся по вакуумным тоннелям со скоростью, делающей любую точку города доступной за считанные минуты. На поверхности же царили пешеходы, велосипедисты и те самые дроны-курьеры.
С самого начала полковник Орлов, начальник службы безопасности «Стикс», назначил ему личного помощника и проводника. Ею оказалась Ариадна Непалова – худая, строгая женщина в очках с тонкой металлической оправой. У нее были живые, пронзительные глаза, в которых светился острый, неукротимый ум, тщательно скрытый под маской официальной вежливости.
– Моя задача – обеспечить вам максимально полный и эффективный доступ к информации и объектам, необходимым для вашей работы, Максим Леонардович, – говорила она, и ее голос звучал безупречно нейтрально, словно заученная формула. – Полковник Орлов поручил мне курировать ваш график.
Именно она организовывала его встречи, лекции и семинары. Она сопровождала его повсюду, ее присутствие было ненавязчивым, но постоянным. Он чувствовал на себе ее пронзительный, оценивающий взгляд.
Его миссия началась с обхода. Первым местом посещения стал Нанотехнологический институт «Прогресс», здание, которое само по себе казалось воплощением будущего. Оно возвышалось над окружающим ландшафтом как гигантское перевернутое гнездо, сплетенное из стекла и металла. Его фасад, покрытый наноструктурированными панелями, переливался всеми оттенками голубого, отражая свет так, что казалось, будто здание дышит. Внутри воздух был прохладным и стерильным, как будто само пространство было пропитано наукой.
Залы института были разделены на зоны по уровням чистоты. В «серых» зонах – там, где велись теоретические расчёты и проектирование – учёные в свободной одежде обсуждали что-то у голографических столов, их лица озарялись азартом открытия. Но чем глубже Максим продвигался во внутрь, тем строже становилась атмосфера. В «белых» зонах – стерильных лабораториях – даже дыхание казалось нарушением порядка. Здесь, за толстыми стеклянными перегородками, трудились люди в герметичных скафандрах. Их движения были точны, как у часовщиков, собирающих механизм из атомов. На мониторах в реальном времени вращались модели молекул, а в специальных камерах под вакуумом росли структуры, которые в будущем должны были стать сверхпрочными материалами или нейроинтерфейсами нового поколения.
– Здесь рождается будущее, – тихо сказала Ариадна. Её голос звучал сдержанно, но в глазах горело что-то, похожее на гордость. – Эти люди работают над материалами, которые изменят мир. Самовосстанавливающиеся полимеры, наносенсоры для медицины, квантовые процессоры… – Она махнула рукой в сторону одного из лабораторных боксов, где сквозь прозрачные стены было видно, как учёный в перчатках манипулирует каким-то сложным оборудованием. – Видите этого парня? Он работает над созданием наночастиц, которые смогут очищать кровь от токсинов и даже регенерировать повреждённые ткани. Успех этого проекта означает конец эры старения, Средний срок человеческой жизни вырастит до 200 лет.
Максим смотрел на учёного, который, не отрываясь, вёл тончайшую работу, его лицо было сосредоточенным. Всё здесь казалось идеальным – и это пугало.
– А что с этикой? – спросил Максим, не отрывая взгляда от лаборатории. – Кто контролирует, как будут использоваться эти технологии? Кто решает, кому они достанутся?
Ариадна на мгновение замерла, её взгляд стал более напряжённым.
– Евгений Сергеевич лично курирует все проекты. – Она сделала паузу. – Но вы правы, это… сложный вопрос. Иногда я думаю, что мы слишком сосредоточены на том, что можем сделать, и забываем спросить себя, стоит ли это делать.
Максим посмотрел на неё, удивляясь такой откровенности. В её глазах он увидел сомнение – то самое, которое и он чувствовал в «Вереске».
– Вы сомневаетесь? – тихо спросил он.
Ариадна отвела взгляд, её пальцы сжали край планшета.
– Иногда, – призналась она. – Но что толку в сомнениях, если они ни к чему не ведут? Здесь, в «Вереске», у нас есть шанс изменить мир. Может быть, это стоит той цены, которую мы платим.
Максим хотел спросить, какую именно цену она имеет в виду, но в этот момент к ним подошёл один из учёных, чтобы провести экскурсию по лабораториям. Разговор прервался, но слова Ариадны засели в голове Максима, как заноза.
На другой день после посещения института «Прогресс» Ариадна пригласила Максима в другую локацию.
– А сегодня покажу вам нечто совсем другое, – сказала она. – То, без чего «Вереск» просто не мог бы существовать.
Они сели в электрокар, машина плавно тронулась с места, и через несколько минут они подъехали к огромному куполообразному зданию, покрытому прозрачными панелями, под которыми просвечивала буйная зелень. Это был Агрокомплекс «Флора» – сердце пищевой системы «Вереска», место, где рождалась еда для всего города.
– Здесь всё выращивается внутри, – пояснила Ариадна, когда они вошли в просторный вестибюль. – Без пестицидов, без ГМО, без сезонных ограничений. Только чистая, здоровая пища.
Воздух здесь был влажным, тёплым и насыщенным ароматами – не одним, а сотнями: пряные, травянистые ноты спелых томатов, гвоздично-перечный запах базилика, нежная кислинка малины, цветочный нектар тропических плодов. Это был запах жизни.
Максим огляделся. Перед ним простирались многоуровневые гидропонические фермы, уходящие в глубину, под землю, и ввысь на несколько этажей. Каждый ярус был освещён специально подобранным спектром света, имитирующим солнечный. На нижних уровнях росли злаки – пшеница, рис, кукуруза, их стебли колыхались под лёгким дуновением вентиляторов, создающих искусственный ветер. Выше располагались грядки с овощами – томатами, огурцами, перцами, их листья были сочными, почти нереально зелёными. На самых верхних уровнях, куда падал самый яркий свет, зрели фрукты: кисти винограда, свисающие с опор как драгоценные камни, гроздья бананов, манго, яблони, груши, апельсины, чьи деревья были выращены в виде компактных шпалер. Всё здесь было идеально – от формы листьев до размера плодов, как будто природа подчинилась человеческой воле и стала ещё совершеннее.
Всё это обслуживали роботы-агрономы – изящные, похожие на пауков машины на тонких, гибких конечностях. Их «головы» были усыпаны сенсорами, сканирующими каждое растение на предмет зрелости, влажности, уровня питательных веществ. Один робот аккуратно срезал спелые помидоры, другой – опрыскивал листья микроэлементами, третий – собирал урожай в подъезжавшие по магнитным рельсам контейнеры. Ни одного человека. Только тихий шелест листьев, журчание воды и едва слышное жужжание сервоприводов.
– Всё здесь автоматизировано, – продолжила Ариадна, ведя Максима вдоль одного из рядов, где роботы как раз собирали спелые помидоры. – Но это не значит, что здесь нет места для человека. Наши агрономы и биологи постоянно работают над улучшением сортов, над созданием новых гибридов, над оптимизацией процессов. Они следят за тем, чтобы всё было не просто эффективно, но и… гармонично.
Максим остановился у одного из растений и осторожно прикоснулся к листу. Он был прохладным и упругим, почти искусственным на ощупь.
– А если кому-то захочется просто сорвать яблоко с дерева? – спросил он, глядя на идеальные растения. – Просто так. Не потому, что оно в меню, а потому что захотелось?
Ариадна усмехнулась.
– У нас есть парки. И деревья. Но даже они – часть системы. Их рост и развитие тоже контролируются…
Максим услышал в её голосе тот же самый нюанс, что и раньше – едва уловимое сомнение. Он посмотрел на робота, который аккуратно срезал очередной помидор. Всё здесь было идеально. Слишком идеально.
После осмотра «Флоры» Максим почувствовал, как у него кружится голова от обилия впечатлений. Здесь, в этом гигантском, отлаженном механизме, всё было подчинено одной цели – обеспечить «Вереск» всем необходимым. Но эта безупречность, эта предсказуемость казались ему теперь не просто впечатляющими, а почти пугающими. Он понял, что «Вереск» – это не просто город. Это организм, где каждая деталь имеет своё место и свою функцию. И где любое отклонение от нормы может показаться угрозой.
Они вышли из «Флоры» под мягкий свет настоящего солнца. Воздух снова стал сухим и прохладным. Максим оглянулся на гигантский стеклянный храм урожая, и в его душе вновь засверлил тот же вопрос: «Это рай… или самая изощрённая тюрьма?»
– Завтра утром у вас запланирована лекция, – сказала Ариадна, будто угадав его мысли. – В Университете «Ноосфера». Это сердце интеллектуальной жизни «Вереска». Если «Прогресс» – это руки науки, а «Флора» – желудок, то «Ноосфера» – это разум. И, возможно, совесть.
– Совесть? – переспросил Максим с лёгкой иронией. – В системе, где даже сомнение считается отклонением?
Ариадна не ответила сразу. Они сели в электрокар, и тот плавно тронулся, унося их прочь от аграрного сектора.
– Вы увидите сами, – сказала она наконец, и в её голосе прозвучала неуловимая горечь. – «Ноосфера» – последнее место, где ещё можно спорить. Пока можно.
На следующее утро Максим проснулся с ощущением, что его разум всё ещё переваривает увиденное накануне. Картины идеальных рядов растений, безупречных плодов и бесшумных роботов-агрономов не давали ему покоя. Он вышел на балкон своего дома и вдохнул утренний воздух, насыщенный ароматом цветущих магнолий. Город уже просыпался – люди спокойно шли по улицам, дроны-курьеры бесшумно скользили между зданиями, доставляя заказы.