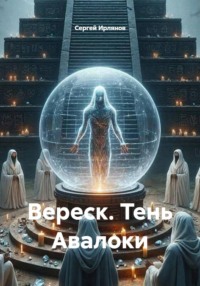Полная версия
Вереск. Мысли в тени

Сергей Ирлянов
Вереск. Мысли в тени
«Вереск. Мысли в тени.»
Все имена, персонажи, организации, события и инциденты, изображенные в этом романе, являются продуктом авторского воображения или используются в вымышленном контексте. Любые совпадения с реальными людьми, как живыми, так и умершими, коммерческими предприятиями, событиями или локациями являются чисто случайными и непреднамеренными.
Серия книг:
Книга первая – «Вереск. Мысли в тени.»
Книга вторая – «Вереск. Вызов сознания.»
Книга третья – «Вереск. Тень Авалоки.»
Пролог
Кабинет располагался на самом верхнем этаже главной башни «Хрустального дворца». Здесь не было окон в привычном понимании – одна из стен представляла собой единый гигантский экран, проецирующий панораму идеального города, лежащего внизу, как строгая сетка улиц, симметричная и безупречная, будто начерченная по лекалу. Вторая стена была скрыта за стеллажами с редкими старинными книгами в кожаных переплётах – Платон, Кант, Ницше, Эрих Фромм, Густав Лебон. Третья представляла собой сплошную голографическую панель с текущими данными по всем системам «Вереска». Воздух был стерильно чист и чуть разрежен, словно в музее.
Евгений Сергеевич Кирьянов стоял спиной к двери, глядя на безупречные кварталы. Рядом замер полковник Орлов – начальник службы безопасности «Стикс». Его лицо было непроницаемой маской, отточенной молчаливой выдержкой, но в глазах, холодных как лёд, читалось напряжение.
– Он согласится, – нарушая тишину, произнёс Кирьянов, не оборачиваясь. Его голос был спокойным, глубоким, без необходимости повышать тон, чтобы быть услышанным.
– Евгений Сергеевич, я должен ещё раз высказать свои опасения, – отчеканил Орлов. – Кашинский… его работы… они крайне критичны к любым формам социального контроля. Его статьи о цифровом тоталитаризме изучают в академиях как образец диссидентской мысли. Впустить его сюда – всё равно что запустить в стерильный бокс вирус.
Кирьянов медленно повернулся. Его взгляд был тяжёлым, всевидящим.
– Именно поэтому он и нужен, полковник. Он – лучший. Он видит все изъяны, все ловушки, все подводные камни. Если он сможет создать для нас идеологию, которая удовлетворит его… она удовлетворит любого критика извне.
– Создать идеологию? – в голосе Орлова прозвучало едва сдерживаемое недоумение. – Евгений Сергеевич, у нас есть «Кодекс Вереска». Его достаточно для…
– «Кодекс» – это набор правил, полковник! – голос Кирьянова не повысился, но в нём зазвучала сталь. – Правил поведения. Мне нужна не инструкция. Мне нужна душа. Идея, ради которой всё это строилось. Вера. Люди не могут жить долго только на комфорте и безопасности. Им нужна цель. Высший смысл. Философия.
– У них есть высший смысл. Процветание их семей. Будущее их детей, – жёстко парировал Орлов.
– Это база. Этого мало. Я хочу, чтобы они гордились тем, что они – часть этого места. Чтобы они чувствовали себя не просто спасёнными, а… избранными. Новой аристократией духа. Но я вижу, как всё это превращается в нечто иное. В систему контроля, в тюрьму, в механизм, который сам себя пожирает. – Кирьянов сделал паузу, его взгляд скользнул по корешкам книг. – Кашинский сможет дать им это. Он сможет облечь нашу работу в красивую, благородную обёртку.
Орлов напрягся ещё сильнее, его челюсти сжались.
– А если он начнёт копать не в ту сторону? Задавать не те вопросы? У нас… много операционных нюансов, которые лучше не выносить на философский суд. «Санаторий». «Квоты». «Протоколы». – Он произносил эти термины с особой, осторожной интонацией, в которой, впрочем, читалось не только опасение, но и смутная горечь человека, вынужденного годами пачкать руки ради чужой утопии. – Евгений Сергеевич, мы строили крепость, а не монастырь. Наши методы… они эффективны, но не для философских дискуссий. Они требуют железной воли, а не благородных сомнений.
Кирьянов медленно повернулся, его взгляд стал тягучим, как смола.
– Именно поэтому мне и нужна его «благородная обёртка», Дмитрий Иванович. Чтобы ваши «эффективные методы» больше никогда не понадобились. Чтобы «Вереск» мог существовать, не прячась за вашими штыками.
Орлов замер, и на долю секунды его каменное лицо дрогнуло, выдав внутреннюю ярость. Он вложил душу в эти «штыки», выстроив идеальный механизм безопасности, а теперь его объявляли пережитком.
– Вы хотите, чтобы он стал вашим голосом, – тихо произнёс Орлов. – Но он не станет вашим голосом. Он станет голосом тех, кто не согласен с вами. Он станет голосом сомнения.
– Возможно, – согласился Кирьянов. – Но лучше сомнение, чем слепое повиновение. Лучше критика, чем бездумное подчинение. Я хочу, чтобы люди верили в это место, а не боялись его.
Орлов молча кивнул, но его поза не изменилась. Сомнение витало в воздухе, густое, как дым.
– Он не дурак, Евгений Сергеевич. Он может почуять подвох.
– Все люди чего-то хотят, полковник, – тихо произнёс Кирьянов, снова глядя на город. – Одни – денег. Другие – славы. Третьи – власти. Кашинский… он хочет признания своего интеллекта. Он хочет доказать, что его идеи могут изменить мир. Я дам ему такую возможность. Самую большую в мире песочницу для его философских экспериментов. – Он обернулся, и в его глазах вспыхнул холодный огонь. – А вы проследите, чтобы из этой песочницы не было выходов. И чтобы в ней не оказалось ничего… лишнего. Я приглашаю философа. Вы обеспечиваете его безопасность. И нашу. Всеми необходимыми средствами. Это понятно?
Орлов вытянулся в струну.
– Так точно, Евгений Сергеевич. – В его голосе не было и тени сомнения. Лишь привычная, отточенная готовность выполнить приказ. Любой приказ.
Кирьянов кивнул и снова повернулся к окну-экрану. Разговор был окончен. Полковник бесшумно вышел, оставив архитектора «Вереска» наедине с его творением и его амбициями.
За дверью кабинета остались невысказанные тревоги и не озвученные угрозы. И решение, которое могло изменить все.
После ухода Орлова Кирьянов ещё долго стоял у панорамного экрана. На его лице, обычно непроницаемом, играла тень сомнения. «Сад или крепость?» – этот вопрос терзал его. Он строил убежище для гениев и мыслителей, а получил цифровой концлагерь. Пальцы нервно постукивали по стеклянной поверхности стола. Приглашение философа было рискованным ходом. Это был крик души, последняя попытка найти выход из лабиринта, который он сам и построил. Но иного пути не было. Без идеи, без высшего смысла его творение оставалось бы просто машиной, пусть и идеально отлаженной. А машины ломаются. В них верят только пока они работают.
Он глубоко вздохнул, отгоняя колебания, и повернулся к лифту. Это был не обычный лифт, а его персональная капсула. Он вошёл внутрь, и двери бесшумно сомкнулись. Капсула, не подавая признаков движения, переместила Кирьянова глубоко вниз на подземные этажи…
Остановилась она на уровне, не обозначенном ни на одной схеме. Двери открылись не в коридор, а в шлюз с белыми стерильными стенами. Сканеры считали сетчатку глаза, провели мгновенный генетический анализ по частицам кожи в воздухе.
– Добро пожаловать, Евгений Сергеевич, – прозвучал бесстрастный электронный голос.
Запустился протокол дезинфекции. Стены шлюза оросили его облаком антисептика, затем – струёй обеззараженного воздуха. Только после этого открылась внутренняя дверь.
Его встретил человек в белом халате и специальной прозрачной маске, закрывающей всё лицо. Надпись на груди гласила: «Р. Соколов.».
– Евгений Сергеевич, – кивнул врач, его голос был слегка приглушён маской. – Вовремя. Только что получили последние результаты.
– И? – односложно бросил Кирьянов, позволяя помощникам надеть на себя стерильный халат, бахилы и маску.
– Потрясающие. Просто потрясающие, – в голосе Соколова звучала сдержанная, профессиональная эйфория. – Все маркеры в пределах нормы. Нет ни намёка на отторжение или регрессию. Мы наблюдаем полную интеграцию на клеточном уровне. Это… это прорыв, Евгений Сергеевич. Это Нобелевский уровень.
Они шли по бесконечному, залитому ярким белым светом коридору. По обе стороны за толстыми стеклянными стенами виднелись лаборатории, заполненные сложнейшим оборудованием. В одних – биореакторы, где в питательном растворе росли искусственные органы. В других – мощные микроскопы с мониторами, за которыми сидели учёные. Повсюду – экраны с бегущими строками генетического кода и сложными графиками. Воздух гудел от работы мощных серверов и был наполнен запахом озонированного воздуха и чего-то сладковатого, медицинского.
– Не торопитесь с выводами, Роман, – сухо остановил его Кирьянов. – Мы уже проходили через «стабильные фазы». Я хочу видеть ежедневные отчёты. Каждый параметр. Малейшее отклонение – мне на стол немедленно.
– Конечно, Евгений Сергеевич, – тут же согласился Соколов, его энтузиазм слегка поугас. – Протоколы наблюдения не нарушаются ни на секунду.
Они приблизились к конечной точке коридора – массивной, прозрачной стене из бронированного стекла. За ней располагалось помещение, разительно контрастировавшее со стерильной строгостью лабораторий.
Это была просторная, уютно обставленная комната, напоминавшая лофт дорогого дизайнера. Книжные полки до потолка, дорогая аудиотехника, игровая приставка последней модели, гитара в углу, даже небольшой спортивный уголок. Одна из стен, противоположная стеклу представляла собой гигантский экран с видом на вечерний, сияющий огнями «Вереск» – словно диорама идеального мира.
На кожаном диване, спиной к стеклу, спал юноша. Лет шестнадцати. Худощавый, бледный, с тёмными волосами. Он был укрыт мягким пледом, его дыхание было ровным и спокойным. Рядом на полу лежала раскрытая книга – какой-то старый фантастический роман.
Кирьянов замер у стекла. Всё его напряжение, вся холодная решимость куда-то ушли. Его лицо разгладилось, в глазах появилось что-то бесконечно усталое и… человеческое. Он смотрел на спящего юношу с таким выражением, которое никогда не позволил бы себе показать наверху.
– Он сегодня спросил, когда сможет выйти погулять, – тихо, почти шёпотом, сказал Соколов. – Говорит, что смотрит на город каждый день и хочет пройтись по его улицам.
Кирьянов не ответил. Он простоял так ещё несколько секунд, его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Потом резко развернулся и, не сказав больше ни слова, направился обратно к шлюзу.
Доктор Соколов бросил последний взгляд на спящего пациента и поспешил за своим патроном, оставив юношу одного в его роскошной, абсолютно стерильной клетке с видом на рай, который существовал только за непробиваемым стеклом. Рай, который сам Кирьянов уже не знал, как спасти.
Часть 1: Философ
Глава 1: Московский день.
Жизнь Максима Леонардовича Кашинского была отлажена с точностью швейцарского механизма, скрывавшего под собой тихую, привычную пустоту.
Пробуждение ровно в шесть утра. Тихая московская квартира в центре, доставшаяся по наследству. Тишина. Ни детского смеха, ни собачьего лая. Его дочь, пятнадцатилетняя Софья, жила с бывшей женой. Они виделись раз в две недели, их общение всё больше напоминало вежливые, осторожные визиты.
За окном уже начинался обычный московский день. Сизый, утренний смог, как серое одеяло, накрывал дворы и улицы. На улицах начиналось повседневное движение: спешащие на работу люди, стоящие в пробках машины и гул строительных площадок. Город дышал своей неугомонной, нетерпеливой жизнью, где каждый был поглощён своими проблемами. Воздух, проникающий через форточку, был густым, с примесью выхлопных газов, пыли и чего-то еще – запаха большого, уставшего города, который никогда не спит по-настоящему.
Быстрый, функциональный завтрак. Яичница, кофе. Взгляд на экран – новости, почта. Мир снаружи всё так же трещал по швам, но его личный мир сузился до размеров кабинета.
Работа с научными журналами. Лекции в МГУ, семинары в РАНХиГС, видеоконференции с зарубежными коллегами. Его статьи о цифровом тоталитаризме и этике больших данных вызывали нервный смешок в академических кругах – «Леонардыч опять про апокалипсис пишет». Его ценили, но не слышали. Он стал гласом вопиющего в пустыне, который уже и сам устал вопить.
Сегодняшняя лекция в академии ФСБ была особенной. Его пригласил лично начальник академии генерал-лейтенант Сухов, ценитель его трудов, сквозь зубы признававший: «У вас, Максим, бред часто, но свежий бред. Ребятам мозги проветрить полезно».
Дорога до академии заняла чуть больше часа. Максим сидел в такси, наблюдая за мелькающими за окном пейзажами: серые дома, забитые транспортом улицы, уставшие лица прохожих. Он думал о том, как далёк этот мир от идеалов. Москва была живым, но больным организмом, в котором прогресс и отсталость существовали бок о бок, создавая постоянное напряжение.
Проход через многоуровневую систему безопасности был быстрым и отлаженным. Его пропустили – его лицо было в базе. Читал он в строгой, аскетичной аудитории перед слушателями с непроницаемыми лицами. Говорил об уязвимостях личности в цифровую эпоху, о том, как данные превращаются в инструмент контроля. Озвучивал провокационные тезисы. В ответ – умные, выверенные, но осторожные вопросы. Никто не спорил. Никто не возмущался. Они анализировали. Как и он. Казалось, никто уже давно ничему не удивляется. Их лица были масками профессионализма, а в глазах читалось утомление и цинизм. Максим понимал, что его слова для них – всего лишь ещё одна теория, ещё одна попытка объяснить мир, который они и так знали слишком хорошо.
Лекция закончилась. Сухие, вежливые аплодисменты. Генерал пожал ему руку, поблагодарил за «нестандартный угол зрения».
Максим вышел из здания, вдыхая прохладный московский воздух, и почувствовал привычную лёгкую опустошённость после выступления. Улица была наполнена звуками и суетой. Машины текли непрерывным потоком. Прохожие спешили по своим делам, но Максим почувствовал себя одиноким в этой суете, как будто он был единственным, кто действительно задумывался о смысле всего этого движения. Он достал телефон, чтобы вызвать такси, как вдруг его окликнули.
– Максим Леонардович?
Рядом с тротуаром стоял чёрный электрокар «Сириус» с тонированными стёклами. Передняя пассажирская дверь была открыта, рядом стоял молодой человек в идеально сидящем на нем тёмном костюме. Его лицо было лишено эмоций, взгляд – прямой, оценивающий.
– Вам письмо, – молодой человек протянул конверт.
Максим машинально взял его. Конверт был из плотной, словно ручной работы бумаги, цвета слоновой кости. В углу было изящное тиснение – стилизованный цветок вереска. Конверт был тяжёлым, солидным на ощупь. Бумага внутри, как он ощущал сквозь конверт, была ещё плотнее. Это было что-то из другого мира, мира, где всё продумано до мелочей, где нет места хаосу и суете.
– От кого? – спросил Максим, но дверь автомобиля уже бесшумно закрылась. Машина тронулась с места и растворилась в потоке, не оставив ни ответа, ни шанса отказаться.
Максим остался стоять на тротуаре, сжимая в руках письмо. Он отошёл в сторону, под сень деревьев, и вскрыл конверт осторожно, почти благоговейно.
Внутри лежал лист той же великолепной бумаги. Текст был набран изящным шрифтом, но не напечатан, а вытеснен, как бы отлит в бумаге. Он знал эту технику – это было настоящее интальо, дорогая и редкая полиграфия.
Он пробежал глазами по тексту. Первые же строчки заставили его кровь похолодеть.
«Уважаемый Максим Леонардович,
Ваши работы по социальной философии и критике цифрового тоталитаризма не остались без моего внимания. Они демонстрируют редкую проницательность и…»
Максим поднял глаза от письма, не в силах читать дальше. Он смотрел на удаляющиеся огни чёрного «Сириуса», а потом на роскошный конверт в своей руке.
Кирьянов. Евгений Сергеевич Кирьянов. Миллиардер-затворник, легенда, миф, «русский Говард Хьюз». Человек, построивший где-то за Уралом свой собственный, закрытый город. «Вереск». О нём ходили слухи, легенды, конспирологические теории. Его имя было символом абсолютной власти, изоляции и тайны.
И этот человек… писал ему. Лично. Знакомился с его работами. Предлагал… Максим снова взглянул на письмо… «обсудить возможности применения его теорий на практике в условиях уникального социального эксперимента».
Он перевел взгляд на улицу – на серые дома, на мусор у обочины, на усталые лица прохожих, на небо, которое не обещало ничего, кроме очередного серого дня. И вдруг это всё – этот знакомый, уютный, но такой утомительный и несовершенный мир – показался ему таким ветхим и старым. А где-то за Уралом, существовало нечто иное, о чем он даже не мог представить. Нечто идеальное, закрытое, недосягаемое. И это нечто протягивало к нему руку.
У него закружилась голова. Это была шутка? Провокация? Невероятная, головокружительная возможность? Или нечто более тёмное и опасное?
Он прислонился к холодному стволу дерева, сжимая в руке письмо, которое вдруг показалось ему невероятно тяжёлым. Оно пахло дорогим парфюмом, кедром, полевыми цветами и… чем-то неизвестным, чужим, пугающим. Мир его упорядоченной, предсказуемой жизни дал трещину, и из неё на него смотрела бездна.
Максим сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять дрожь в руках. Холодный московский ветерок обжигал щёки, возвращая к реальности. Он снова поднял письмо, на этот раз внимательно вчитываясь в каждый вытесненный символ.
«Уважаемый Максим Леонардович,
Ваши работы по социальной философии и критике цифрового тоталитаризма не остались без моего внимания. Они демонстрируют редкую проницательность и интеллект, которые, увы, стали дефицитом в современном академическом дискурсе.
Вы с беспощадной точностью диагностируете и вскрываете болевые точки современного общества. Однако критики, остающейся в рамках чистой теории, часто недостаточно. Истинная проверка любой теории – практика.
Я предлагаю Вам уникальную возможность. Покинуть поле абстрактных дискуссий и принять участие в амбициозном социальном эксперименте. Я создал изолированную среду, «Вереск», где многие из поднятых Вами проблем находят своё практическое – и, смею надеяться, успешное – разрешение.
Мне требуется не апологет, не придворный философ. Мне нужен вдумчивый, бескомпромиссный критик, способный увидеть изъяны и предложить решения. Человек, который поможет облечь практический опыт «Вереска» в стройную идеологическую основу, способную стать фундаментом для будущего развития.
В качестве гостя я предлагаю Вам полный доступ ко всем аспектам жизни города, за исключением критически важных коммерческих тайн. Вы сможете жить среди нас, общаться с жителями, изучать работу наших институтов. Ваша задача – понять, осмыслить и помочь сформулировать философию «Вереска».
Все Ваши расходы, разумеется, будут покрыты. Вам будет предоставлено комфортабельное жильё, полный пансион и доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Для связи и решения всех организационных вопросов прошу обращаться к моему личному помощнику, Артёму.
Контакты Артёма:
Телефон: [странный номер, видимо, спутниковый]
Я понимаю, что подобное предложение может показаться неожиданным. У Вас есть время на размышление. Однако прошу отнестись к нему со всей серьёзностью. Речь идёт не просто о работе, а о возможности принять участие в создании модели возможного будущего для всего человечества.
С надеждой на сотрудничество,
Евгений Сергеевич Кирьянов.»
Подпись – «Е. Кирьянов» – также была не чернильной, а вытесненной, твёрдой и безоговорочной.
Максим опустил руку с письмом. В ушах шумело. Это было не предложение о работе. Это было… признание. Признание от одного из самых могущественных и закрытых людей планеты. Кирьянов не просто читал его работы. Он понял их. И он предлагал ему то, о чём любой учёный может только мечтать – не просто изучать объект, а влиять на него. Создать идеологию для целого мира.
Но была и тень. Глубокая и холодная. «Изолированная среда». «Успешное разрешение проблем». Что скрывалось за этими гладкими, отполированными фразами? Было ли это действительно лабораторией будущего или же самым изощрённым тоталитарным режимом, нуждающимся в интеллектуальном прикрытии?
Сомнения, острые и рациональные, боролись с невероятным, дурманящим профессиональным любопытством. Страх – с азартом первооткрывателя. А ещё… была тень отца. Его предостережения, его паранойя, его незавершённая рукопись «Психопатология технократического спасения», где он с яростью обличал «кирьяновщину» как новую форму рабства.
Максим вдохнул полной грудью, сжимая в дрожащих пальцах тяжёлый конверт. Он закрыл глаза, пытаясь заглушить гул в висках. Он был похож на шахматиста, застывшего над решающим ходом, который определит всю дальнейшую партию. Отказаться – значит навсегда остаться в своей удобной, предсказуемой пустыне, терзаясь вопросом «а что, если?». Согласиться – шагнуть в ослепительный, но абсолютно неизвестный свет.
Он сделал несколько глубоких вдохов, выравнивая дыхание. Холодный московский ветерок обжигал щёки, возвращая к реальности. Когда он снова открыл глаза, в них читалась не решимость, но безжалостное, холодное любопытство учёного, готового поставить эксперимент на себе. Он аккуратно сложил письмо, вернул его в конверт и сунул во внутренний карман пиджака. Движение было обдуманным, лишённым прежней поспешности.
Он достал телефон. Не для того, чтобы вызвать такси. Он нашёл номер своей бывшей жены.
– Алло, Галя? Извини за беспокойство. Мне нужно уехать. Надолго. Важная работа. За границу. Связь будет… ограничена. – Он сделал паузу, слушая её удивлённые, а затем встревоженные вопросы. – Да-да, всё в порядке. Просто… уникальный проект. Передай Соне, что папа её очень любит. И… я буду звонить, когда смогу. Обещаю.
Он положил трубку, чувствуя, как с этим звонком обрывается последняя нить, связывающая его со старой жизнью. Затем он набрал другой номер. Тот самый, с конверта.
– Алло? Артём? – его голос прозвучал спокойно и ровно, будто он записывался на приём к стоматологу. – Это Максим Леонардович Кашинский. Я получил предложение от Евгения Сергеевича. Я согласен. Что мне делать дальше?
Голос Артёма в трубке был таким же безупречно вежливым и безличным, как и конверт с письмом.
– Максим Леонардович, я рад вашему решению. Завтра в 14.00 за Вами приедет машина. Успеете собраться?
– Да, – ответил Максим.
– Из вещей возьмите только самое необходимое – документы, ноутбук, личные мелочи. Всё остальное будет предоставлено на месте. Билеты уже оформлены.
Максим попытался что-то уточнить, но связь прервалась. Всё было решено. У него было не так уж и много времени, чтобы свернуть свою старую жизнь.
Последующие часы пролетели в лихорадочной суете. Он слал срочные электронные письма – в МГУ, в РАНХиГС, в редакции журналов. Сочинял на ходу убедительные, но размытые формулировки: «срочный закрытый исследовательский проект за рубежом», «длительная экспедиция», «связь будет нерегулярной». Отменял лекции, переносил дедлайны. Коллеги в ответ писали удивлённые сообщения. Его резкость и внезапность были ему несвойственны.
Наконец, он остался один в своей тихой квартире. Глаза невольно упали на полку с его собственными книгами. На корешок одной из них – «Диагностика тоталитаризма: от Платона до цифровой эпохи». Он вспомнил один из своих же семинаров, где они с аспирантами разбирали скудные публичные данные о «Вереске». Он тогда, с присущим ему максимализмом, назвал проект Кирьянова «технократической утопией, обречённой на вырождение в диктатуру благих намерений». Студенты спорили, кто-то восхищался масштабом, кто-то пугал «новым рабством». Он тогда и подумать не мог, что сам окажется приглашённым архитектором этой самой «диктатуры».
И вдруг, словно от удара током, его пронзила другая мысль. Отец. Его отец, Леонард Кашинский, тоже занимался критикой технократии и социального инжиниринга. Он часто спорил с отцом, считая его взгляды излишне резкими, почти конспирологическими. И он смутно припоминал, как отец, незадолго до своей скоропостижной смерти, в ярости говорил о каком-то «частном проекте на Урале», о «лаборатории по выведению нового человека», о «кирьяновщине» как о самой страшной угрозе свободе… Связь была зыбкой, почти призрачной, но чувство тревоги от этого только усилилось. Что, если его пригласили не только за его идеи? Что, если это какая-то сложная, изощрённая месть или проверка со стороны человека, которого его отец когда-то считал врагом?
Сомнения грызли его, но путь назад был отрезан. Любопытство – не только научное, но и глубоко личное – оказалось сильнее страха.
Глава 2: Дорога в рай
В назначенное время он вышел из подъезда с одним небольшим чемоданом. Чёрный «Сириус» с тонированными стёклами уже ждал его. Водитель, такой же молчаливый и профессиональный, как и посыльный накануне, молча принял багаж и открыл дверь.