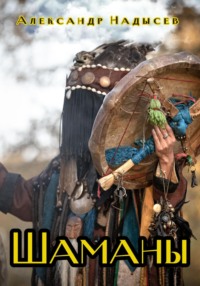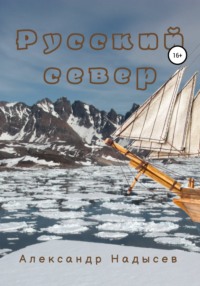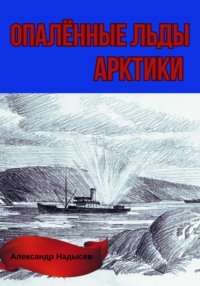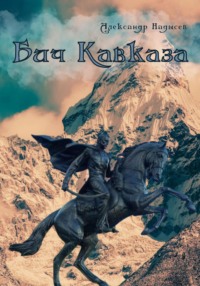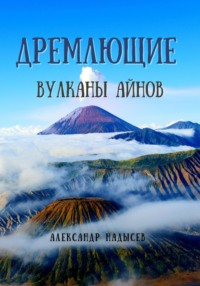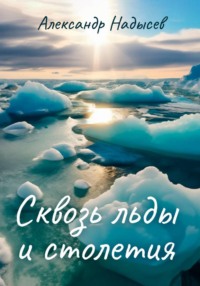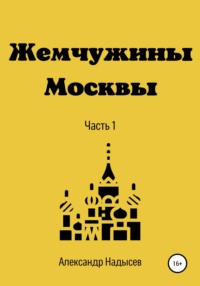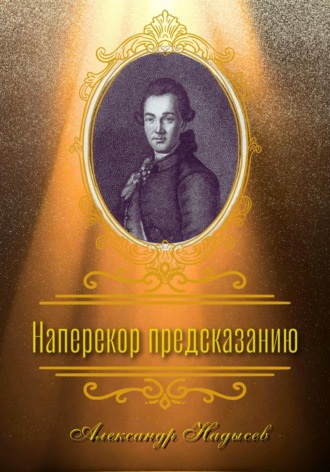
Полная версия
Наперекор предсказанию
– Какой бравый! – опять рассмеялся Кокоринов. – И всё же, если хорошо будешь учиться, то в матросы тебя точно не определят.
Матвей как-то съёжился и примолк, а Кокоринов его спросил:
– Что умолк? Впрочем, идём в рисовальный класс, я там тебя познакомлю с ребятами Дворцовой школы.

Глава 5. Знакомство
Дворцовая школа находилась в ведении Сената и составляла особую «экспедицию». В эту школу принимали мальчиков не моложе 9 лет, знающих «грамоту и счет», а также учитывали их склонность к архитектуре. Низкий уровень грамотности учеников был в то время обычным явлением, и нетрудно представить себе уровень развития бедного подьяческого сына Матвея Казакова, которого надлежало еще обучить «письменному исправлению». В редких случаях в школе появлялись хорошо подготовленные мальчики, такие как Василий Баженов, успевший окончить Славяно-греко-латинскую школу и умевший уже неплохо рисовать.
Когда Кокоринов с Казаковым вошли в рисовальный класс, то ученики встретили их молча, но перезнакомившись, стали бурно общаться и показывать свои работы. Новичку Казакову сразу понравились тщательные рисунки подписанные Баженовым и он, быстро освоившись, стал показать свои работы. Бегло просмотрев рисунки новичка, Баженов первым отметил:
– Хорошие рисунки, только бумага дрянь.
– Всё равно здорово, – в разнобой закричали ученики, а кто постарше заметил. – Пейзажи хороши, но очень уж похожи на старые гравюры.
– Ничего подобного, – возразил кто-то, – в них природа и хороший штрих!
По просьбе Кокоринова, Баженов тоже стал показывать новые рисунки. Все стали сравнивать и кричать, перебивая друг друга:
– Баженовские, конечно, лучше, а в Казаковских больше натуры, но неряшливые.
Казаков с Баженовым переглянулись, а итог подвёл Кокоринов:
– Техника исполнения у Баженова значительно лучше, чем у Казакова, да и композиция у него более интересная. Так что завтра, ребята, будет урок по композиции. Готовьтесь!
Уже утром в рисовальном классе молоденькие ученики школы, бросив рисовать, обступали Баженова и стали восторгаться его рисунком, а тот, напустив на себя важный тон, поучал их:
– Надо больше выходить в натуру, тогда всё оживёт.
– Да, рано им ещё, – услышали они голос, неожиданно заглянувшего в класс, помощника директора Кокоринова. – Пусть лучше срисовывают гравюры. А вот Казакову надо действительно поболее рисовать с натуры, и не какие-нибудь гнилушки, а достойные здания.
– Хорошо, хорошо, – покраснел Матвей Казаков.
– Так, Баженов, – вскричал Кокоринов, – опять ты рисуешь фантазии? Что будем показывать директору? А?
– Вот есть рисунки Кремля, – показал Василий Баженов.
– Вот, вот, эти и выставляй, – уходя, велел Кокоринов. – Впрочем, покажи мне ещё раз свои архитектурные фантазии. Слышишь? Ты понял?
– Слышал, Матвей, – пожал плечами Баженов,– то показывай, то не показывай.
– Твои композиции, что надо! – восхищался Казаков. – А вот эта, просто классная! Мне бы так рисовать!
– Порисуешь с моё, научишься! – собирая свои рисунки, заулыбался Василий. – А ты рисуй, рисуй не отвлекайся.
«Как же Василий хорош! – то восторгаясь, то расстраиваясь, вздыхал Матвей, продолжая рисовать. – Мне так же хочется, но где там? Он талант, а я? А я в отличии от Василия рисую неважно, неуч в арифметике, да и в латыне тоже. Куда мне до него».
И вдруг он услышал возглас Баженова:
– Что мучаешься? Давай выправлять. Немного почётче и попрямее, здесь и здесь. Вот заметь, получилось получше!
– Как тебе это удаётся? Раз, раз и получилось здорово! – восхитился Казаков и сразу поник. – А у меня так не получается.
– От чего же? – успокаивал его Василий. – У тебя всё хорошо. Только нужно чаще отходить от своего мольберта. Иначе глаз «замыливается» и ты свой рисунок начинаешь портить. Вот и сейчас, давай отойдём от мольберта. Видишь, какой бледный рисунок? Надо тебе притемнить деревья и поконтрастнее сделать тени. Понял? Теперь дорисовывай, а я пошёл в Кокоринову.
Директор Ухтомский часто устраивал выставки рисунков и на примере архитектурных композиций Баженова наставлял учеников правильному подходу к рисованию перспектив, а Василий при этом только смущался и краснел. Матвей Казаков, всякий раз разглядывая рисунки Баженова, восторгался фантазиями Василия, и страстно желал научиться, так же красиво придумывать и рисовать. Он вечерами часто оставался в рисовальном классе, чтобы придумывать архитектурные фантазии, а затем сделать тонкой кистью отмывку китайской тушью, это ему особенно нравилось. Но пока он чувствовал свою беспомощность, и поэтому стремился как можно быстрее постичь основы черчения и рисунка. Для этого он неустанно изучал гравюры известных мастеров архитектуры и старательно копировал их, тем самым постигая совершенство пропорций, заложенных в этих произведениях искусства. А Баженов по-дружески успокаивал его:
– У тебя неплохо получается! Твои композиции, Матвей, напоминают гравюры итальянцев, и мне даже кажется, что твои лучше!
– Не ожидал, – краснел Матвей. – Мне очень нравится классика Палладио, и я в восторге от его работ! А ты как творишь?
– Я рисую свои композиции, не заглядываясь на классиков, – рассмеялся Баженов, – за что получаю обидные замечания от учителей.
– Если честно, то я тебе завидую, конечно, по дружески, – признался Казаков. – И многому буду учиться у тебя! И … я хочу догнать тебя!
– Да, ладно, – смутился Баженов и улыбнулся. – Догоняй, если хочешь!
Ученики школы действительно постигали основы архитектуры по трактатам известных итальянских архитекторов Марка Витрувия, Андреа Палладио, Жакома да Виньолы и сочинениям французского теоретика XVIII века Франсуа Блонделя. Вместе с тем, директор Ухтомский прививал своим воспитанникам и любовь к проектированию зданий, используя приёмы древнерусского зодчества. Так стала формироваться характерная черта творческого стиля Матвея Казакова – это сочетание классической и древнерусской архитектуры. Особенно он восхищался гравюрами архитектора Андреа Палладио, и пытался применять приёмы великого мастера в своих первых проектах. Ухтомский удивлялся упорству и работоспособности Матвея и часто нахваливал его. Совершая обход на еженедельных выставках работ своих учеников, он аккуратно делал замечания, всякий раз ставя в пример рисунки Баженова, и не забывал хвалить Казакова. Ухтомский часто говорил ученикам:
– Ребята, в своих проектах больше продумывайте архитектурные решения, не торопитесь с отмывкой, не забывайте о прочности конструкций и удобства их возведения.
Так что Ухтомский, приложил немало усилий в воспитании своих учеников, и был доволен, что научил их основам профессионального проектирования зданий с использование новейших приёмов строительства того времени.

Глава 6. Взросление
Неожиданно в школе разнеслась весть:
– Слышали? Баженова, как лучшего ученика, готовят к поступлению в Московский университет.
– Да, нет же! – вскричал кто-то из учеников. – Сначала подготовят в гимназию Университета, а потом уж далее.
– А Василий уже готовится, – проговорил самый шустрый из учеников. – К нему приставили какого-то тощего француза для изучения языка, а ещё дали книги по истории искусств. Я сам видел.
Казаков, узнав эту новость, спросил своего друга:
– Готовишься?
– Как видишь, зубрю французский, – ответил Баженов, отложив книгу.
– Везёт же тебе!
Баженов улыбнулся и заговорщически поведал:
– Я слышал, что нас вдвоём хотели отправить в гимназию Университета, но Ухтомский тебя не отпустил. И знаешь почему?
– Ну?
– Потому что лучше и быстрее тебя никто не может грамотно составлять проекты. Так ведь? Кто красиво будет оформлять проекты по заказам, получаемым на имя Ухтомского? Кто?
– Мне, конечно, жаль, – огорчился Казаков. – Но кому-то ведь надо помогать нашему учителю.
Он вздохнул и, улыбнувшись, сказал:
– Знаешь, Василий, а я рад за тебя! Ты лучший из нас и, как никто другой, достоин учиться в Университете!
– А тебе, Матвей, придётся на практике совершенствовать свою архитектуру, – рассмеялся Баженов. – И это может оказаться эффективнее, чем моя учёба в Университете.
Матвей как-то замялся и спросил:
– Я слышал, что Университет находится в старинных хоромах, это каких?
– Да, знаешь ты, – рассмеялся Баженов. – Московский университет располагается в здании Иверских или Воскресенских ворот на Красной площади, сооружённых в стиле «русское узорочье», это в бывшем здании Главной аптеки.
– Конечно, знаю,– ответил Казаков. – Кто же их сваял?
– Расскажу,– раскраснелся Баженов и стал рассказывать. – Впервые Иверские ворота были построены в 1538 году по проекту архитектора Петрока Малого, и представляют собой двухарочный проезд в Китайгородской стене, на которой находилась боевая площадка с широкими полузубцами. А затем в 1680 году эта стена с помещениями была надстроена двумя шатровыми башнями, увенчанными двуглавыми орлами и там расположили Главную аптеку. Вот, а недавно наш директор школы, князь Ухтомский, перестроил старые корпуса и здание Главной аптеки для нужд Московского университета, а камень и кирпич строители брали из куч рухнувших стен Белого города.
– Я знал об этом обвале и даже ходил смотреть, – вскричал Матвей. – Жуткое было зрелище, когда из-под обвала доставали рабочих. Извини, продолжай, я весь во внимании.
– Так вот, Ухтомский там очень талантливо сумел использовать эти строительные материалы. А ещё отремонтировал здание Главной аптеки для размещения в ней помещений для учёбы студентов. Ухтомский водил меня туда и показывал самый большой зал в башне, и я помню, тот зал был украшен портретом императрицы Елизаветы Петровны под шикарным балдахином.
– Да, вот бы туда попасть учиться, – раскраснелся Матвей.
А Баженов рассмеялся:
– Не успеешь опомниться, как там окажешься!
– Хорошо бы, – ответил Казаков и вспомнил. – Мне же надобно закончить проект для нашего учителя Ухтомского. Так что извини, мне нужно бежать.
Уже в школе Матвей Казаков начал на практике применять свои архитектурные знания, свободно рисуя перспективы, фасады и планы этажей зданий, руководителем которых был сам князь Ухтомский. Матвей часто наблюдал, как работал учитель, тихонечко устраиваясь за его спиной.
«Мне так удивительно смотреть, как он работает, – внимательно следил Матвей за чёткой штриховкой учителя. – И как это у него лихо получается? Он не делает дотошных эскизов, а что-нибудь прибросит на клочке бумаги и сразу чертит фасад начисто. И ведь получается у него здорово. А какие барочные детали, ну просто загляденье!»
– Что задумался? – оглянулся Ухтомский, – Нравится?
– Очень! – как-то растерялся Матвей. – А я так не могу.
– Неужели?
– У вас рука уверенная, – заторопился Матвей. – Вон как выводит орнаменты. Мне далеко до вас.
– А ты попробуй, – заулыбался учитель. – Садись на моё место и дорисовывай орнамент.
– Что вы? Смогу ли? Я испорчу.
– Садись, садись у тебя всё получится!
Матвей Казаков сел дорисовывать, а над ним «висел» учитель.
– Не экономь время, – наставлял он. – Не получилось? Наберись терпения и повтори. Если опять не нравится, вновь берись за рисовку орнамента. И помни, архитектура это не только чистое черчение, а рисовка сложных элементов со знанием её законов. А это непросто! Больше изучай чертежи великих мастеров
– Ну вот, а ты боялся, – шумно выдохнул учитель. – Теперь я могу тебе доверить завершение сего фасада. Я знаю, тебе близок Палладио, вот на его примерах и создавай фасады. Я же приверженец «Елизаветинского барокко», и поэтому фасад прошу закончить в любимом мне барокко!
– Постараюсь.
– И ещё, вот что я скажу, – задумчиво произнёс Ухтомский. – Ты, Матвей, отличаешься от других учеников своим упорством и жаждой знаний, и скоро станешь неплохим архитектором.
И действительно, Казаков умело обмерял древние постройки, выполнял проекты реставраций обветшавших зданий Кремля, составлял чертежи и сметы. Вскоре князь Ухтомский среди учеников школы выделил Матвея Казакова и назначил его своим младшим помощником.
В то время городовой архитектор Ухтомский много строил для Москвы. Кроме реконструкции здания Главной аптеки для Московского университета, он возводил Кузнецкий мост, достраивал Арсенал. А так же построил в Кремле «запасной дворец» у Красных ворот. Казаков во всем помогал своему учителю, делая с Кокориновым блестящие проекты, и все ученики вокруг только восхищались.
В 1754 году по рекомендации Ухтомского Василий Баженов поступил в гимназию при Московском университете, где был зачислен в специальный «художественный класс». А вот его любимый учитель Александр Кокоринов по протекции уехал в Санкт-Петербург, где обещали произвести его в унтер-архитекторы.
Поступив в гимназию, Баженов сразу включился в бурную студенческую жизнь и вскоре ему поручили заняться проектированием нового здания Университета. Он попросил учителя по рисованию Стенглина достать план участка под это строительство и побольше рассказать о нуждах Университета.
– Что знаю, расскажу, – начал учитель. – Вначале наш Московский императорский университет размещается в здании Главной аптеки на Красной площади, однако его тесные помещения с низкими потолками не соответствовали требованиям учебного заведения. Тогда решили выкупить имение князя Петра Репнина, расположенное на пересечении Большой Никитской и Моховой улиц и соседние особняки. На этих землях построили новый комплекс зданий Московского университета, с новыми учебными корпусами, актовым залом, общежитием, библиотекой и аудиториями, в которых мы с тобой и находимся, но и этого оказалось недостаточно.
– Так есть ещё здание Главной аптеки? – вскричал Баженов. – Что с ним?
– Занятия в обветшалом здании Главной аптеки продолжаются. Однако из-за нехватки площадей руководство учебного заведения обратилось в Сенат с просьбой о создании студенческого городка на Воробьёвых горах. Вот для этих целей вам молодому архитектору и предложено разработать проект нового университетского комплекса. Так что ваяйте, молодой человек!
– Теперь я понял, что нужно делать, – обрадовался Баженов. – Нужен филиал Московского Университета!
Василий Баженов очень быстро сделал эскизный проект нового университета и выставил на обозрение перед университетской публикой. Этот красочный проект всем понравился, в том числе и, неожиданно прибывшему в Университет, фавориту императрицы Ивану Шувалову. Однако в использовании земельного участка под строительство было отказано, потому что проект архитектора Баженова не устроил одного из спонсоров, промышленника Прокофия Демидова.
– Слишком шикарны эти домики для студентов, – так выразился он, и всё заглохло. А вот Иван Шувалов запомнил начинающего архитектора Баженова и уже думал о том, куда и как устроить его для дальнейшего обучения. А Баженов продолжал учиться в гимназии при Московском университете и вечерами, как «маэстро», делал много архитектурных предложений по переустройству Университета. Как-то задержавшись, он обратил внимание, на постоянно рисующего студента. Он заглянул через его плечо на рисунок и изумился.
– Неплохо, – похвалил он. – Давно рисуешь?
– С детства, – заулыбался ученик, – а этот угольный карандаш подарил мне Матвей Казаков.
– Знаю Матвея, ещё с архитектурной школы Ухтомского и мы с ним дружны. А тебя как звать?
– Иван Мерцалов.
– А меня Василий Баженов, – улыбнулся «маэстро» и стал показывать свои рисунки.
– Здорово ты рисуешь! – восхитился Мерцалов. – Можно я посмотрю за твоей техникой во время рисования.
– Пожалуйста, – ответил Баженов, – только завтра меня посылают в Санкт-Петербург на учёбу.
– Жаль, очень жаль, – огорчился Мерцалов, – что я не смогу поучиться у тебя!
Так, по рекомендации Ивана Шувалова, в числе девяти лучших учеников Василий Баженов через два года был переведён в Санкт-Петербургскую академическую гимназию, а через два года был принят студентом в Академию художеств.
***
В 1760 году городовой архитектор Ухтомский ушёл в отставку и руководство школой передал своему старшему помощнику Петру Никитину. В том же году из школы Ухтомского был выпущен Матвей Казаков в чине архитектурного прапорщика, и сразу был назначен в «команду» к Никитину, исполнявшему тогда должность городового архитектора Москвы. Уже в течении года Казаков работал под командой Никитина и был счастлив, что ему доверяли рисовать фасады. Вот и сейчас он склонился над очередным фасадом и, высунув язык, вычерчивал капитель.
– Ну, покажи, что у тебя? – навис над ним его начальник.
– Неплохо, – улыбнулся он и вздохнул. – Да, этот год заканчивается необычными событиями.
– Что так? – удивился Казаков.
– Ты знаешь, – помрачнел Никитин и тихо поведал, – после смерти императрицы Елизаветы Петровны в 61-ом году на трон взошёл Пётр III, и он, как бешенный, стал менять всё и вся. Он ведь сразу заявил, что заключит мир с Пруссией и грозился ликвидировать все успехи России в войне с Фридрихом.
– Это предательство! – вскричал Казаков
– Тише ты, – предупредил Никитин. – Надо быть осторожнее в своих выражениях.

Глава 7. Дворцовый переворот
1762 год. Санкт-Петербург не спал и его явно лихорадило. Какие-то крики раздавались в столице, затем стихали, потом опять …
Недавно произведённый генерал-майор Михаил Михайлович Измайлов вздрагивал от этих криков и находился в некотором беспокойстве, ведь император Петр Третий так и не вызвал его во дворец. За обеденным столом он суетился, то вставал, то вновь садился и чувствовал, что без него что-то происходит в столице.
– Да, что с тобой? – спросила его супруга, фрейлина покойной императрицы Елизаветы Петровны, Мария Нарышкина.
– Знаешь, новый император Пётр очень непопулярно начал и в том же духе продолжает своё правление, – почему-то оглядываясь по сторонам, тихо проговорил Михаил. – И я думаю, что недолго ему царствовать.
– Это точно, – подтвердила супруга, – аристократия и гвардия озлоблены против него. Мало того, что он замирился с нашим врагом Фридрихом, так ещё и отдал ему все завоёванные земли. Это же явное предательство! А ещё он собрался послать гвардию воевать на стороне наших врагов.
– Безумец безголовый! – согласился супруг. – За это кощунство он явно поплатится.
– В гвардии найдутся люди и разберутся, что к чему, – вздохнула Мария и с беспокойством посмотрела не него.
– Не знаю, не знаю, – пробормотал Михаил.
– А я знаю, – прошептала Мария, – и мне, кажется, что разберутся братья Орловы. Ведь красавец Григорий давно ухлёстывает за Екатериной, супругой императора, и мечтает свалить этого несносного Петра. Да, и Екатерина тоже не прочь … , ведь Пётр за неверность хочет упрятать её в монастырь.
– Екатерина пока жена императора, – задумался Михаил и вздрогнул. – А ежели, что случиться с Петром, то она может стать императрицей!
– Ну, ты хватил! – вспыхнула Мария.
Вдруг в залу влетел капитан-поручик Измайловского полка Михаил Ласунский:
– Виват, императрице Екатерине Алексеевне! Виват!
– Михаил Ефимович, – испуганно посмотрела на него Мария, – объясни толком.
И Ласунской радостно объявил:
– Император Пётр смещён, и на престол взошла его супруга Екатерина! Гвардейцы уже присягнули, поспешите и вы. Идём к императрице.
А Измайлов, поднявшись из-за стола, пробормотал:
– Мы тут с женой рассуждали о глупости Петра, а вон как получилось.
– Да идём же! – заторопил их Ласунский.
– Михаил Ефимович, остынь немного, – заулыбалась Мария, – лучше расскажи, как это было.
– Что ж, я по-быстрому, слушайте, – гордо встал в позу Ласунский. – Переворот произошёл очень забавно, без всякого кровопролития, и случился в ночь на 28 июня. Екатерина Алексеевна в сопровождении Алексея и Григория Орловых прибыла из Петергофа в Санкт-Петербург в казармы Измайловского полка, где немедленно была провозглашена самодержавной императрицей. От «измайловцев» Екатерина с Орловыми поехала в казармы «семёновцев», потом «преображенцев» и конногвардейцев, которые тоже присягнули. В Казанском соборе духовенство провозгласило Екатерину самодержавной государыней, а затем в Зимнем дворце началась присяга гражданских и военных чинов.
Ласунский передохнул:
– Сегодня 6 июля в Сенате объявили Манифест о восшествии на престол Екатерины II, а 22 сентября в Москве назначена торжественная коронация императрицы. Идём же! Вам, Михаил Михайлович, надобно присягнуть.
Одеваясь, Измайлов занервничал: «Конечно, я присягну, но ведь императрица вспомнит о том, что Пётр дал мне чин генерала и усадьбу Быково в придачу, а потому может услать в деревню!»
***
В Зимнем дворце все только и обсуждали эти невероятные события:
– А как же Пётр? Сопротивлялся?
– Пётр III, как только понял безнадёжность сопротивления, так уже на следующий день отрёкся от престола. Потом он был взят под стражу и вскоре погиб при непонятных обстоятельствах.

Глава 8. Коронация.
1 сентября 1762 года под восторженные крики многочисленного скопления народа, огромный поезд Екатерины выехал из Санкт-Петербурга, и уже 13 сентября состоялся торжественный въезд в Москву, так же с криками и пальбой из пушек. Было объявлено, что официальные торжества продлятся с неделю, а вот «партикулярные празднества»: балы, маскарады, театральные представления и прочие гулянья, продлились до лета 1763 года. Сразу были выкачены бочки вина и выставлены разные копчености, а народ ликовал и орал:
– Гуляй рванина, сколь хочу!
Утром 22 сентября 1762 года состоялись торжества по случаю коронации. Екатерина Алексеевна вышла на крыльцо Грановитой палаты и двинулась со свитой к Успенскому собору. Её длинную императорскую мантию торжественно несли граф Шереметев и шесть камергеров, а Екатерина величественно вошла в собор, прошествовала сквозь ряды высшего духовенства и приложилась к иконам. Затем она по-хозяйски уселась на бархатный престол времён Ивана Грозного и собственноручно надела на себя корону.
– Как оригинально! – зашептали придворные. – Но ведь это не в русских традициях?
– Она же немка, что с неё взять!
– Везёт нам!
Затем последовали торжественные речи, обряд миропомазания и прочее, и прочее. Затем императрица посетила Благовещенский и Архангельский соборы, а после богослужения граф Шереметев объявил царские милости и приглашение на торжественный обед в Грановитой палате. Стол ломился от закусок, а вино подавали без всякой меры.
– Налей ещё!– орали пьяные вельможи. – Не жидись!
– Ещё, ещё!
Когда же, ближе к полуночи, Красная площадь озарилась огнями иллюминаций, императрица Екатерина хотела незаметно пробраться в толпу, но её тут же узнали. Конечно, императрицу сразу оградили гвардейцы, а восторженный народ приветствовал её громкими криками: «Ура! Ура! Ура!»
Уже с раннего утра после коронации Екатерина принялась за государственные дела. Она вызвала секретаря Бецкого и велела записывать:
– Велю построить церковь Кира и Иоанна на Солянке в память своего восшествия на престол, потом учредить Павловскую больницу для бедных в честь выздоровления наследника, великого князя Павла Петровича. Что ещё?
Бецкой молчал.
– А, – вспомнила императрица, – ты, кажется, насчёт Воспитательного дома для сирот печёшься?
– Да, государыня!
– Пиши в указ: «Пожертвовать 100 тысяч рублей на строительство Воспитательного дома».
– Всё иди, – велела она, – мне некогда.
Когда же она узнала о губительных пожарах в Москве, то повелела:
– Прекратить строить деревянные дома, особенно в Белом городе, и принять меры к защите Москвы от пожаров.
Бецкой осторожно напомнил ей о делегации московских купцов, которые были у неё намедни и хлопотали насчёт городского водопровода. А императрица подумала: «Денег на акведук нужно немало, но Бог с нами, сдюжим для доброго дела». Она улыбнулась и обратилась к Бецкому:
– Велю в Москве начать строительство общественного водопровода с акведуком в местечке Ростокино и даю денег сколь надо!
Наступил октябрь, и императрица вдруг вспомнила о своей мечте и велела секретарю:
– Готовься, Бецкой. Завтра я посещу Троице-Сергиеву лавру. Поедем на санках по снежку!
За делами и заботами прошла зима, и солнце стало подниматься над древней Москвой всё выше и выше. Императрица посмотрела в окно и печально посетовала: