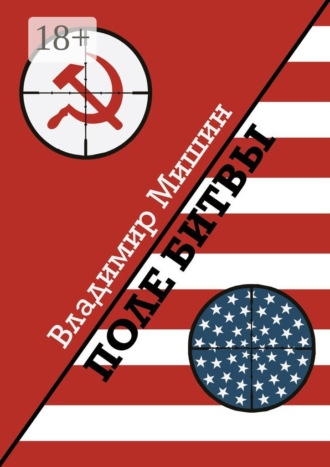
Полная версия
Поле битвы
Петрович «стратегию Васильича» оценил, посмеялся, стал называть себя «верным другом», намекать, что-де и у него в прошлой жизни имелись жена-стерва и тёща-язва, которые «хорошего человека сделали бывшим интеллигентом».
Черепан на откровения те сердечные откликнулся носом сморщенным, долженствующим изобразить сопереживания душевные, да стихами мудрыми, ловко притянутыми, со значением и пафосом прочитанными: «Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм. Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум»19.
Петрович умилился, всхлипнул, к груди Черепана благодарно припал. «Словно пёс преданный», – оценил чувства «друга» беглый полковник.
Глава 4. «По плодам их узнаете их»20
Ну, бич – это ещё полбеды. Черепана-то супружница, дочь генеральская, капризная и глупая, из достоинств в наличии только одно – «паровозик карьерный лампасный» (на него, что греха таить, и польстился, подставляя в сорок седьмом шею под ярмо Гименея, молодой капитан), толкнула на путь предательский, изменнический. Эх, была бы у него тихая, надёжная семейная гавань, разве ж он тогда, три года назад, в летней Ялте поддался бы соблазну курортному?! Хотя если что и будет вспоминать перед смертью (тьфу-тьфу!) Борька Черепан, так это домик беленький у моря Чёрного и хозяйку его – дивную, загадочную, страстную, из тех, кто, как у Джека Лондона, «над жизнью и смертью смеются и любят, пока есть любовь»21…
За два дня до окончания романтического черноморского отпуска иллюзии любовные у Черепана, правда, исчезли. Исчезли вместе с тайно упорхнувшей из Ялты ленинградкой – вместо неё в «гнёздышке любовном» Черепана встретил «кузен» дивной и загадочной. Без лишних слов, уставясь глазами холодными, змеиными, кривясь оскалом шакальим, метнул гость нежданный на стол, словно карты королевского покера, пачку фотографий, на которых член КПСС, отличный семьянин, зять генерала и полковник ГРУ Борис Черепан пылко и страстно изменял законной супруге.
Ясное дело, шантаж вербовочный, хотя мелькнула вначале у полковника мыслишка озорная: а не чекисты ли, играющие роль агентуры цэрэушной, устроили ему в Ялте хитрую проверку на «верность родине»? «Гэбистам отчёты о работе проделанной писать, зарплаты оправдывать, вот и сочинили „на безрыбье“ планчик. А что?! Классика шпионского жанра! Сейчас посмеёмся с коллегами, потом в ресторацию завалимся – офицеры, гусары, столкуемся!» – минуту-другую, словно утопающий за соломинку, хватался поначалу за иллюзии Черепан, верить не хотел в свалившийся на него ужас. Но что всхлипы жалкие против опыта оперативного, познаний премудрых (о природе человека, о правде жизни, ну и вообще…), интуиции дьявольской (раз только – с дивной и загадочной – и подвела!) – советников безжалостных, вразумляющих?
Глянец компроматный, отдал должное коллегам цэрэушным Черепан, получился отменным (отличные ракурсы, крупный план, нюансировка, игра светом – убить за такое мастерство не жалко!): людишки ловкие, порнографией приторговывавшие, за столь великолепное художество дорого бы дали. Обида горькая ядом похмельным вползла тогда в мозг Черепана: «Эх, и как это я угодил в ловушку „медовую“22, как промахнулся по схеме банальнейшей, затёртой что в КГБ, что в ГРУ, что в ЦРУ, что в прочих разведках до дыр?!» В командировках зарубежных строго бдил Черепан, а дома, в советской Ялте, расслабился, не удержался, уступил соблазну, поверил в искренность чувств «кандидата наук, несчастной в замужестве ленинградки». Подвели тогда Черепана не только чувства несвоевременные, но и изменившая полковнику хватка профессиональная. Хотя, казалось бы, всё сделал, как учили. Как ушла «пылкая и страстная» перед первой «ночью афинской» в садик, в душ летний, поискал и нашёл в ящике комода паспорт дамы, изучил, чуть на зуб не попробовал. Документ подлинный, с пропиской ленинградской, со штампом семейным. Пролистал томик Чехова, лежавший на тумбочке в изголовье у ложа альковного – ни пометок со смыслом тайным, ни записок вложенных с текстами остужающими. Обыскал чемодан – ничего настораживающего: платья, бельё. Трусики шёлковые, нежные пальцами нервными потискал, жадно, словно пёс легавый, обнюхал – запах дивный, одурманивающий! Проверил – бегло, по инерции, комнату: искал «жучки», скрытые фотообъективы. Не нашёл – и успокоился. Опять же тихий, за забором высоким домик на окраине Ялты (удобство для романа курортного несомненное, реноме «птицы высокого полёта» охраняющее) притупил нюх контрразведывательный – и «Акела промахнулся»23.
Черепан мог бы презреть компромат и, сохранив «верность Родине и присяге», сдать «дивную и загадочную» (адрес питерский, в паспорте отмеченный, запомнил) вместе с «кузеном» её цэрэушным («Этого бить кулаком в темя и вязать на месте!») коллегам из КГБ – пусть разбираются с предателями. И ведь был, был у него поначалу такой порыв! Слушал Черепан змеиную вязь вербовщика, а сам фантазировал, как врежет ему правой, как угомонит рухнувшего на пол приёмом болевым, как свяжет презренного его же рубашкой, на ленты изорванной, как сдаст изменника гэбистам. Это уж потом, минут через десять, фантазии героические поиссякли, и мозг воспалённый стал накручивать гневные тирады руководства гэрэушного, парировать которые было нечем. Скажет, к примеру, на собрании партийном начальник Управления генерал Соколов: «Любовная связь полковника Черепана с агентом ЦРУ – это, товарищи, не просто минутная и аморальная слабость, это потеря профессионального нюха и хватки!» И вывод сделает очевидный, руководящий: «Допустившему такой промах в работе нечего делать в славных рядах ГРУ!» Следом и «товарищи офицеры», однопартийцы хреновы, как пить дать, «за аморальное поведение» из рядов партии единогласно исключат.
Шефа в думах печальных сменил тесть-генерал. «Прикрывать меня в кабинетах высоких родственничек поостережётся, а на слова гневные в кругу семейном скупиться не станет. Сначала ударит кулаком по столу и закричит о смертельной обиде, семье нанесённой: „Я ж к тебе, как к сыну родному, а ты, подлец, с другой бабой связался!“ Потом о личной синекуре генштабовской вслух запечалится: „Ты не просто изменил моей дочери! Курортный флирт с честной советской труженицей я ещё мог бы простить – сам не безгрешен. Но ты, подлец, ты Катерине изменил с подстилкой цэрэушной!“ Яснее ясного: от родственничка жди не поддержки, а дистанции демонстративной. Само собой, и в жизни семейной крутой поворот: тесть и Катерина „смоют позор“ разводом – и ту-ту, паровозик карьерный! Прощай тогда квартира в Брюсовом, прощай дача подмосковная! После фиаско такого – только в завхозы бездомные. А то и в сторожа! И в запой!»
И стало Черепану от мыслей резонных так тоскливо, так беспросветно, что хоть вой. От безысходности стал Черепан поминать лихом супругу законную: «Всё забудет, стерва, всё! И как вешалась на шею молодому красавцу: высок, строен, златокудр Борис Черепан, глаза синие, чистые, в плечах широк, ум остёр, потенция галифе рвёт! И как дауна родила и в приют сдала! А потом с майором – порученцем генеральским – спуталась, счастья материнского на стороне искать стала. Да не вышло счастья – потому как мусор ты, Катька, генетический! Эх, поторопился ты с супружеством, Борька, одно слово – продешевил!»
А вербовщик всё жужжит, жужжит, кругами, гад, словно падальщик чёрный в небе ясном, ходит!
«Как, как жить буду без власти, без погон, без кабинета высокого, квартиры роскошной, дачи генеральской, распределителей закрытых, командировок заграничных?!» – закружилось в сознании горячечном. И всхлипнул Черепан, разумом возмущённым осознав, что нет ему жизни без синекуры, что себя любит больше, чем Родину-мать. Откровение болью ударило в сердце, запульсировало в висках: «Ах, подлец я, подлец!»
А вербовщик глазки хитрющие прищурил, диктофон на стол, словно фокусник ловкий, выложил да послушать дал, как, испив дурмана любовного («пылкая и страстная» оказалась достойной ученицей царицы египетской Клеопатры), сболтнул полковник ГРУ пособнице ЦРУ лишнее, на измену родине вытягивающее. «Тщеславие разобрало, покрасовался перед бабой, блеснул „записками путешественника“! Но ведь только о Вене, о ресторациях да магазинах тамошних! И что с того – о работе ведь ни звука!? Да, сказал, что в Австрию прикатил на выставку техническую – но именно так по легенде и было! И всё же, всё же не надо, не надо было, словно Лягушка-путешественница24, болтать о командировке той майской, австрийской, когда передал агенту – сошке мелкой, механику из гаража дипмиссии американской – „жучка“ новейшего. Встретились вечером в туалете ресторанчика скромного – я отдал, он – взял: сработали чисто. „Жучка“ агент в машине военного атташе пристроил, я потом в резидентуре, в посольстве нашем, проконтролировал – звук хороший, печали не знай, пиши, что америкосы выбалтывают. Где измена?!»
Где измена, объяснил вербовщик: послушав альковные откровения Черепана, ЦРУ засуетилось – не за австрийской же кухней да блейзерами новомодными прикатил в Вену полковник ГРУ?! – и за неделю вышло на агента, а тот при первом же допросе раскис, сдал и «жучка», и «вас, Борис Борисович». «Спасибо, полковник, помогли вы нам!» – захихикал вербовщик, пересказывая Черепану текст, психологами цэрэушными сочинённый.
Не знал вербовщик, что на агента ГРУ в посольстве американском в Вене цэрэушники вышли случайно и до откровений ялтинских: бдительные соседи в далёком штате Мичиган приметили, что у доселе скромной семьи автомеханика, пусть и дипмиссионера, появились явно лишние деньги – и, преисполненные патриотизма (ну и завистью – куда ж без неё, гидры мерзкой?! – к чужому достатку распираемые), сообщили о подозрениях своих местным федералам25. Те – коллегам в Лэнгли. Дальше – стандартная проверочная схема (прослушка, наружное наблюдение, отслеживание контактов). Работа рутинная, но результат дала – вывела и на куратора автомеханика из резидентуры посольской, и на потенциально перспективный объект вербовки – весьма кстати командированного из Москвы полковника ГРУ. Не знал об этом и Черепан. Но значения, кто, когда и как раскрыл агента, для судьбы Черепана уже не имело – ЦРУ ловко привязало провал ГРУ венский к откровениям ялтинским: цепь логическая безупречна, поди докажи, полковник, что не ты сдал противнику и товарища по борьбе, и технику новейшую!
А у вербовщика, хоть и бормотнул он: «Сами понимаете, Борис Борисыч, оригинал записи и негативы в надёжном месте», пальчики дёргаются, коленка дрожит и мысли страшные, чёрные: «А если полковник не иуда, а коммунист настоящий, идейный, как у Женьки Урбанского26? Врежет, кремень, кулачищем, скрутит – и в Лефортово! А оттуда только два пути – либо на рудники урановые, либо в подвал гэбистский – за пулей в затылок. Хозяину что, у хозяина паспорт дипломатический, ему – ни хрена, а у меня семья и мать-пенсионерка!»
«Видно, подсыпала, мерзавка, в шампанское зелье специальное, языки развязывающее, потому и сболтнул про Вену! Только зелье – не оправдание! И за выболтанное в постели отставкой, разводом и уходом в завхозы не отделаешься. За такое – топор в руки и на лесоповал!» – мучился, слёзы от обиды на глупость ялтинскую глотал, зубами от нахлынувшей злобы на весь мир благополучный скрипел Черепан.
А вербовщик, леденея под взглядом тяжёлым, немигающим, давясь страхом пещерным, с пафосом проникновенным сластил пилюлю горькую: дескать, всё, свершённое в будущем Черепаном, всё это для предотвращения большой войны, ради спасения мира и сохранения жизни на земле, «во имя торжества демократии и высоких гуманистических идей». А о «провале венском» полковнику печалиться не надо: по легенде ЦРУ, агент гэрэушный не арестован, а вернулся «по состоянию здоровья» в Штаты, а оттуда в Канаду, на озёра, к воздуху целебному поближе: «И не сомневайтесь, Борис Борисыч, найти его в том месте надёжном коллегам вашим, если желание таковое у них появится, шанса ну ни единого». И ещё одна отличная новость: «жучок» из машины атташе военного не изъят, продолжает трудиться в Вене («Для вас, товарищ Черепан, это ведь важно, да?»), дезинформацию в ГРУ «тоннами грузит» («А это уже наш гешефт!»).
«Гуманизм, борьба за мир, демократию – враньё, всё враньё, но как самооправдание измены сгодится», – мелькнуло у Черепана. И вспомнил вдруг полковник «Капитанскую дочку», в школе раз читанную: «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст». И следом понеслись в сознании его, бедой нежданной помутнённом, вербальные обрывки, сколы, ошмётки: «Бунтарь я! Пугачёв двадцатого века! Борец с тоталитаризмом! С режимом кровавым! С единомыслием! Герой я! Одиночка! Придёт время, книги обо мне напишут! Поэмы сложат! Кино снимут! Нехай не на „Мосфильме“, а в Голливуде!» И расправил Черепан, словно морфинист, дозу вкусивший, плечи богатырские, и «спасибо» сказал русской литературе, поддержавшей в трудную минуту советом. «Не лукавь, Борька, Пушкиным не прикрывайся!» – мелькнуло тогда в горячечном сознании Черепана истинное, на весах правды отмеренное, но не вонзилось в совесть занозой, а сгинуло в тёмном колодце души – и подписал «герой-одиночка» бумагу о сотрудничестве с ЦРУ.
Не сразу, конечно. Для начала потребовал от вербовщика «подтверждения полномочий» – не потому, что сомневался, «кто есть кто», а чтобы время получить на размышления глубокие, гроссмейстерские, на «двадцать ходов вперёд». Ну и характер показать, реноме поднять, цену набить. Отмахнувшись от робких возражений вербовщика (в сознании пронеслось: «Куда ты теперь, гнида, денешься? Раз я у Конторы твоей забугорной на крючке, играть ты должен аккуратно, чтобы рыбка золотая не сорвалась, в море-океан не ушла! Поэтому сейчас я командую, ты – исполняешь!»), открыл крымское красное («Принёс для ужина приватного с дамой, а оно вон как получилось…»), судорожно глотнул из горла. И, нагло похохатывая, стал диктовать «кузену» план проверочный. А ополовинив бутылку, удивился, как всё-таки точны слова «от любви до ненависти один шаг». Это уже об исчезнувшей из Ялты «дивной и загадочной»: «Осталась бы ещё на денёк, я б тебе такую «прощальную ночь любви» устроил – маркиз де Сад от зависти гроб в щепки разнёс бы!»
На подготовку «подтверждения», экспромтом сочинённого Черепаном, «кузен» попросил время. Сговорились на 4 сентября, воскресенье.
К сроку назначенному Черепан хорошо обдумал условия сотрудничества с новым работодателем – и финансовые (это архиважно!), и на экстренный случай (а это ещё, ещё важнее!). Потому что не было у Черепана сомнений: начни он работать на ЦРУ, жить ему в Союзе осталось недолго. Рано или поздно, но почувствует полковничий затылок горячее дыхание КГБ («А не почувствует – смерть верная!») – и тогда спасение в бегстве. Лучше в Америку. Лучше к большим долларам. «Федька Раскольников27, гвардеец ленинский, ушёл в тридцать восьмом на Запад, письма Сталину сочинять стал, вопросы наивные ставить: „Что вы сделали с конституцией, Сталин? Где герои Октябрьской революции? Где старая гвардия?“ Ну и я для персека что-нибудь любомудрое сочиню: „Что вы, интриган, бездарь и невежа, сделали с землёй-кормилицей, с тружеником-аграрием28? Где гордость Москвы – сорок сороков церквей29? Вы уничтожили их!“ Слава и место в истории мне, как и Федьке, обеспечены! Дом на побережье во Флориде куплю, яхту, „мерседес“ белый, женой новой обзаведусь, наследников здоровеньких нарожаем! А что, красивая жизнь за океаном может получиться! А красота стоит риска!» – тешил себя Черепан химерами – а чем ещё, не водкой же, не аминазином30, в овощ человека превращающим, боль душевную унимать?!
4 сентября синий «форд» посольства США (за рулём – третий секретарь, кадровый офицер ЦРУ, информация точная, гэрэушная, в петлице белого пиджака – красная гвоздика) ровно в полдень крутанул по Пушкинской площади. Черепан стоял у киоска «Союзпечати», до проезжавшего мимо «форда» – метров пять. Углядел и цэрэушника, и цвета пиджака-гвоздики (всё, «как заказывал» в Ялте) – и в живот свалилась глыба льда, а в голове обречённо, заезженной пластинкой: «Вот и всё…»
Когда через неделю встретились с «кузеном» в парке Горького, Черепан от подписи на бумаге вновь уклонился. Сказал – твёрдо, решительно, обречённому это не трудно, – что до автографа, черту под славным черепановским прошлым подводящего, надо обговорить с новым работодателем «гонорары за сотрудничество», открыть счёт в швейцарском банке, куда денежка трудовая побежит, дать тому документальное подтверждение, ну и «варианты ухода на экстренный случай» вынуть и положить!
«Кузен» от новых требований скривился, залопотал глупости, но Черепан был непреклонен: назвал место и дату очередной встречи, объяснил, какие бумаги хочет увидеть, и, не прощаясь, исчез, растворился в аллее.
В октябре на Клязьме (присели с «кузеном» с удочками рядом на берегу – место тихое, обзор отличный) Черепан копии бумаг нужных увидел, прочитал, номер счёта банковского запомнил, удовлетворённо хмыкнул, свернул листки трубочкой и сжёг, а пепел ногой растёр и щедро залил водой.
Когда «кузен» шёпотом («Вокруг ни души, а ты от страха дрожишь, сволочь!» – со сладким злорадством отметил полковник) назвал размеры гонораров, Черепан вознегодовал, зашипел, стал торговаться – зло, напористо, словно барышник, не желающий уступить за призового скакуна ни копейки. Напирал на то, что продаёт он коллегам заокеанским товар не третьесортный, а «горячо любимую родину», что такого ценного агента, как полковник Черепан («Примите во внимание тестя: генерал-лейтенант, генштабист, источник стратегической информации!»), у Конторы ещё не было! А «кузен» всё глазки закатывал, всё обещал «передать шефу».
В ноябре Черепан встретился с «кузеном» ещё раз – там же, на Клязьме. ЦРУ, бормотнул «кузен», пообещало быть щедрым. «Слова, слова, слова», – оценил обещание Черепан, но делать нечего – хозяин положения не он, а ЦРУ, крякнул и подписал бумагу о сотрудничестве. Потом положил руки тяжёлые «коллеге» на плечи, в глаза испуганные взглядом хмурым впился, пригрозил: «Смотри, бди: бумагу в руки лично шефу – я потом проверю!»
«Кузен» лист (для Черепана, попади он в руки гэбистов, смертельный, словно «игла Кощеева»31) сложил вчетверо и равнодушно пихнул в карман внутренний. Потом как-то нехорошо, свысока глянул на Черепана и стал, словно начальник большой, по памяти инструкции наговаривать: на каких радиоволнах и когда слушать цифры заокеанские, какой ключ использовать для раскодировки шифровок, приказы несущих, где, в каких тайниках закладки с отчётами оставлять, какие метки и в каких местах ставить в экстренных случаях, потом удочку свернул и в Москву засобирался.
Черепан разозлился, лексику ненормативную вспомнил, «кузена» силою рядом усадил и ребром вопрос наиважнейший поставил. Не перед «шестёркой», конечно, и даже не перед резидентом цэрэушным из посольства американского – какой с них спрос? – а перед боссами из Лэнгли: дайте, дайте варианты ухода «из этой страны» на Запад! (Перестала Родина быть «его страной» – стала местом, где сребреники изменой зарабатывают.) Понимал Черепан, что ЦРУ попавший «под колпак» КГБ агент не нужен – как и любой другой выработавший свой ресурс расходный материал. Но о спасении близких к провалу агентов в Лэнгли думали – ради других, перспективных, вербуемых, Родине ещё не изменивших, чтобы те знали – о сохранности их шкур в ЦРУ, «если что», позаботятся. Только для этого и спасали в Лэнгли попавших «под колпак КГБ» предателей, выводили из СССР. Ну и ещё чтобы демонстрировали беглецы на постфактумных пресс-конференциях на «Западе свободном» образы «мужественных борцов с тоталитаризмом».
«Хотя какое мужество, какая борьба за демократию! Мне, как и остальным „борцам“, жизнь моя, единственная, неповторимая и обеспеченная, дорога! Она, и только она, любимая! Не спасало бы ЦРУ нас от КГБ, от трибуналов военных и пуль расстрельных, хрен бы мы на Контору заокеанскую горбатились!» – зло думал полковник ГРУ Черепан, и когда бумагу вербовочную подписывал, и когда в мае 1963-го бичом прозябал в пионерлагере подмосковном.
А всё жена! Не была бы дурой, стервой и мусором генетическим, разве угодил бы Черепан в «беленькую мышеловку на берегу Чёрного моря», в которой восхитительная, головокружительная приманка ЦРУ горячо и восторженно читала ему чеховскую «Даму с собачкой», а потом шептала меж ласками любовными пылко, страстно: «Ведь это про нас с тобой, Боренька!». Антон Палыча «приманка» тогда ловко, тузом козырным ввернула – у Черепана в груди от соотнесённости судьбы своей со строками классика так горячо стало, так приятно, словно в жилах полковника – под жгучим взглядом «несчастной в замужестве» – воспламенился «Наполеон» из закрытого распределителя ГРУ!
«И сгорел мотылёк…»
Глава 5. Поцелуй Иуды
Провёл Черепан в зоне дороховской почти месяц. Время даром беглец не терял: мышцы накачал, жирок согнал, мозоли натёр, образ маскирующий аскезой да ужимками лицедейскими сваял. В начале июня в корпусах пионерских ребятня появилась, вожатые с провожатыми, и пришлось Черепану днём таиться в сторожке Петровича, покидая – для прогулок и забав с гирями – «подполье» лишь ночью. Петрович представил Черепана начальству лагерному «как надо» – «заглянувшим на пару дней» другом фронтовым. Для совков-патриотов лучше рекомендации не придумаешь, но бережёного не только Бог бережёт, но и конспирация.
К исходу лагерного затворничества похудел Черепан, если весы пионерские не врут, почти на пуд, щёки пухлые, гладкие, розовые «сменил» на болезненно-впалые, щетинистые. Волосы на челе, жаль, отросли немного, на сантиметр с хвостиком, но и эта новоявленная скромность былую красу и гордость интеллектуала высоколобого (в прежней жизни залысины – по образу и подобию «гениального Ильича» – создавал бритвой) уподобила узкому лобику дегенерата. Само собой, отрастил усы и – радость особая – кусты из носа и на ушах. С осанкой барской и шагом вальяжным, стремясь к идеалу – образу горбатого урода Квазимодо из нашумевшего фильма «Собор Парижской Богоматери»32, – пришлось помучиться. До идеала Черепан не дотянул, не дал Бог таланта Энтони Куинна, но сгорбленность и пришибленность на любительском уровне играть научился. Но главное – взгляд. Прежний барин, жизни хозяин, уступил место маленькому человечку – убогому, забитому, униженному, с глазками жалостливыми, придурковатыми – то самое, для успеха потребное! Увидел в зеркале преображение своё Черепан – восхитился! На вдохновении за три последних лагерных дня отрепетировал и лицедейский вариант «на крайний случай» – если попадёт он (тьфу-тьфу!) в сети чекистов и играть придётся роль со словами – контуженного фронтовика. Хотя образ «крайний», скопированный с фотографии Ильича в Горках после третьего инсульта (зрелище жутковатое, от народа засекреченное, доступное лишь узкому кругу избранных), получился так себе, на три с минусом. Ну и, само собой, за дни отсидки никаких ванн ароматических да парфюма французского из жизни допровальной – только редкий душ с мылом хозяйственным. И явился он, дух стойкий, сермяжный, спасительный (в меру, в меру, здесь перебарщивать тоже нельзя: чекисты не простаки, учуют запашок схронный, мигом вцепятся хваткой бульдожьей!), с массой народной сливающий, внимание сыскарей от персоны столичной, особо важной, в розыск объявленной, отводящий.
Аккуратно, за недельку до прощания с жизнью затворнической, попросил Петровича – тот как раз Москву собирался навестить – купить ему на Курском вокзале билетик до Баку. Мол, хочет он к другу старинному, закадычному, фронтовому в гости съездить, рыбки каспийской половить. Сам на Курский за билетом Черепан ехать не то, что не хотел, а не мог – страшно было до предынфарктного.
Желание гостя Петрович понял и принял: юг – это хорошо, а друг закадычный, которому всё про себя как самому себе – ещё лучше, вздохнул печально, но просьбу «брата-фронтовика» выполнил.
К тайничку с паспортом надёжным, деньжатами «подъёмными» да вальтером верным Черепан, со слезами простившись с Петровичем и пообещав «навестить вскоре, после возвращения с юга, друга обретённого» (слова подтвердил «залогом» – шмотьём заграничным, оставленным в сторожке), отправился в день отъезда утром ранним. Сначала – рейд лесной к дуплу «азимутному», от него пять шагов на север к берёзке зрелой, под которой зарыта коробка жестяная, от воды, где надо, просмолённая, с запасами заветными. Оттуда – в Дорохово, далее электричка, метро и вокзал Курский. На дела эти три часа плюс час резервный на непредвиденные обстоятельства – всё точно рассчитал беглый полковник.
Одного не учёл – злой, мстительной памяти малолеток обиженных. Появились они на полянке солнечной за спиной Черепана, деньги, из коробки вынутые, пересчитывавшего, стаей жестокой, немилосердной. Двое побитых, знакомцев старых, а с ними трое подельников взрослых, крепких, залётных, науку лагерную, судя по наколкам кистевым, прошедших, дугой волчьей обложили Черепана. Хотя нет, какие они волки – серые бы сразу кинулись, вцепились, изодрали, деловито и молча следуя инстинкту. Двуногие хищники не кинулись, не вонзили в плоть горячую клинки бандитские – встали полукольцом метрах в трёх от добычи, закурили, залыбились, замолотили языками убогими дремучее, пещерное, жестокое, жертву в дрожь вгоняя, себя заводя да удовольствие от расправы близкой, зверской, кровавой растягивая.

