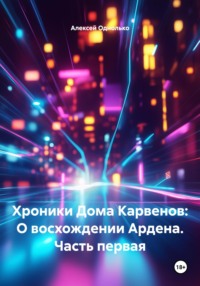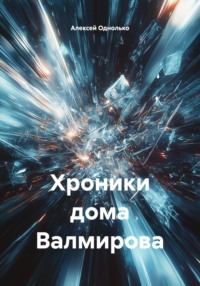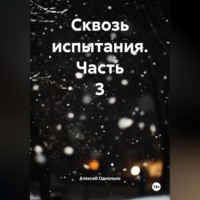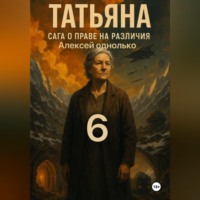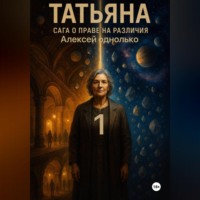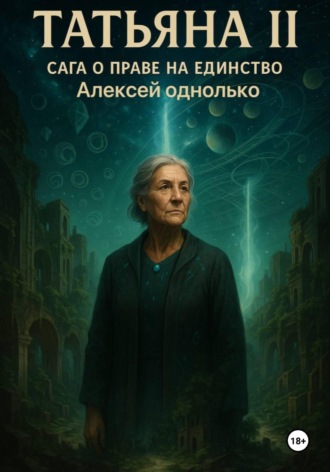
Полная версия
Татьяна, Сага о праве на единство 2
– Но ведь близкие отношения делают человека уязвимым. Дают врагам возможность причинить боль.
– Это правда. Но они также дают силу, которую невозможно получить другим способом.
Наш разговор прервал звонок. Лена сообщила, что из Екатеринбурга поступают тревожные сводки.
– Крылов собрал митинг протеста, – доложила она. – Около двух тысяч человек. Требуют отмены реформ и введения "чрезвычайного положения".
– Есть угроза насилия?
– Пока нет. Но настроения накаляются.
Я посмотрела на Алексея.
– Похоже, мне нужно ехать в Екатеринбург.
– Это может быть опасно.
– Может быть. Но если я не поеду, будет ещё опаснее. Народ должен видеть, что я не прячусь за стенами кабинета.
– Тогда я еду с вами.
Я удивилась.
– Зачем? Это не ваша проблема.
– Возможно. Но теперь это моя забота.
В его словах было что-то, что заставило моё сердце пропустить удар. Неужели действительно может так быстро возникнуть привязанность?
Через два часа мы вылетали в Екатеринбург на небольшом самолёте. Со мной были Лена, двое охранников и Алексей. По дороге я думала о том, какую стратегию выбрать.
Силой подавлять протест было нельзя – это только подтвердило бы обвинения в "тирании". Но и уступать требованиям Крылова тоже было опасно – это показало бы слабость власти.
– А что, если попробовать найти компромисс? – предложил Алексей. – Не отменять реформы, но изменить их график? Дать людям время привыкнуть к идее?
– Крылов не хочет компромиссов. Он хочет власти.
– Возможно. Но большинство людей на его митинге хотят просто стабильности. Если вы сможете их переубедить…
Он был прав. Задача состояла не в том, чтобы победить Крылова, а в том, чтобы переманить на свою сторону его сторонников.
В Екатеринбурге нас встретили местные власти. Атмосфера была напряжённой – в центре города действительно собралась большая толпа, и хотя митинг пока проходил мирно, настроения были враждебными.
– Татьяна Михайловна, – сказал глава местной администрации Сергей Волков, – может быть, стоит отложить встречу? Обстановка накалена.
– Нет, – ответила я твёрдо. – Именно сейчас нужно говорить с людьми.
Мы прошли к зданию администрации, откуда открывался вид на площадь. Толпа была действительно внушительной – несколько тысяч человек с плакатами "Долой анархию!" и "Порядок превыше всего!".
Крылов стоял на импровизированной трибуне и что-то горячо говорил. Даже отсюда было видно, что он находится в своей стихии – командует, руководит, ведёт за собой.
– Как думаете, если я выйду к ним напрямую? – спросила я у Алексея.
– Это будет смело, – ответил он. – И очень рискованно.
– Но если получится, эффект будет сильным.
Я приняла решение. Несмотря на протесты охранников и местных властей, я спустилась на улицу и направилась к толпе.
Сначала меня никто не заметил. Но когда я подошла ближе, кто-то крикнул: "Смотрите, это же Татьяна!" Толпа заволновалась, люди стали оборачиваться.
Крылов увидел меня и на мгновение растерялся. Он явно не ожидал, что я приду на его митинг.
– Граждане! – крикнула я, поднимая руку. – Можно мне сказать несколько слов?
В толпе началось движение. Кто-то кричал "Долой!", кто-то – "Слушаем!". Крылов попытался восстановить контроль над ситуацией, но было поздно – инициатива перешла ко мне.
– Я пришла сюда не для того, чтобы спорить с вами, – сказала я, когда шум немного утих. – Я пришла, чтобы выслушать ваши опасения.
– Мы против развала государства! – крикнул кто-то из толпы.
– И я против, – ответила я. – Но скажите мне, что такое государство? Это правительство в Москве? Или это мы все – граждане, которые совместными усилиями строят будущее?
– Государство – это порядок! – выкрикнул Крылов. – А вы сеете хаос!
– Полковник Крылов, – обратилась я к нему напрямую, – вы служили в армии. Скажите, что сильнее – армия, где солдаты выполняют приказы из страха, или армия, где они сражаются за идею, в которую верят?
Он помолчал, явно обдумывая ответ.
– Конечно, вторая. Но для этого нужна дисциплина!
– Согласна. Но дисциплина может быть внутренней, а не только внешней. Когда люди сами выбирают своих лидеров, они больше им доверяют. А значит, охотнее выполняют их решения.
Я видела, как толпа прислушивается к моим словам. Многие лица выражали не враждебность, а сомнение. Это было хорошим знаком.
– Но если каждый регион будет жить по своим законам, что нас будет объединять? – спросила женщина средних лет.
– Общие ценности, – ответила я. – Общая история. Общая мечта о лучшем будущем для наших детей. Разве это не сильнее любых законов?
– А если регионы начнут воевать между собой? – крикнул мужчина.
– А зачем им воевать? – удивилась я. – У нас нет дефицита ресурсов. У нас нет территориальных споров. У нас есть общий враг – разруха, которую нужно преодолеть.
Постепенно диалог становился более конструктивным. Люди задавали конкретные вопросы, и я старалась отвечать честно, не уходя от сложных тем.
– Татьяна Михайловна, – сказала пожилая женщина, – а что будет, если народные советы примут неправильное решение?
– А кто определяет, правильное решение или неправильное? – ответила я вопросом на вопрос. – Вы? Я? Или люди, которые будут жить с последствиями этого решения?
– Но ведь не все люди разбираются в сложных вопросах!
– Это правда. Поэтому в новой системе будут работать эксперты и консультанты. Народные советы будут принимать решения не вслепую, а основываясь на профессиональных рекомендациях.
Я говорила уже больше часа, и чувствовала, что настроение толпы меняется. Агрессия сменялась любопытством, а потом – осторожным одобрением.
Крылов понимал, что теряет аудиторию, и предпринял последнюю попытку:
– Граждане! Не дайте себя обмануть красивыми словами! Эта женщина хочет разрушить всё, что мы построили!
– Полковник, – сказала я спокойно, – а что именно вы предлагаете? Вернуться к временам, когда каждое решение принималось в кабинете без учёта мнения народа?
– Я предлагаю порядок!
– Порядок кладбища тоже порядок. Но мы строим жизнь, а не кладбище.
Эта фраза произвела эффект. В толпе раздались одобрительные выкрики, и я поняла, что выиграла этот раунд.
– Я предлагаю компромисс, – сказала я, обращаясь ко всем. – Давайте проведём эксперимент. Выберем три региона-добровольца, где мы запустим народные советы в тестовом режиме. Через год посмотрим на результаты. Если эксперимент удастся – распространим его на всю Конфедерацию. Если нет – пересмотрим подход.
Это предложение понравилось многим. Даже среди сторонников Крылова я видела заинтересованные лица.
– А что, если я выдвину свою кандидатуру в один из этих советов? – неожиданно сказал Крылов.
Я удивилась, но быстро поняла его логику. Он хотел доказать, что демократия не работает, изнутри саботируя её.
– Конечно, – ответила я. – Если люди вас выберут, вы имеете полное право участвовать в эксперименте.
Толпа начала расходиться. Митинг протеста превратился в общественное обсуждение, а это уже была моя победа.
Когда мы вернулись в здание администрации, Алексей сказал:
– Это было впечатляюще. Вы превратили врагов в союзников.
– Не в союзников, – поправила я. – В людей, готовых к диалогу. Это уже большой прогресс.
Вечером мы ужинали в небольшом ресторане – одном из немногих, которые работали в городе. Атмосфера была интимной, и впервые за много лет я почувствовала себя не руководителем государства, а просто женщиной на свидании.
– Татьяна, – сказал Алексей за десертом, – можно личный вопрос?
– После сегодняшнего дня мне кажется, что мы имеем право на личные вопросы.
– Вы когда-нибудь жалеете о том, что стали… тем, кем стали?
Я задумалась.
– Знаете, я часто об этом думаю. С одной стороны, я никогда не просила о такой ответственности. С другой – если не я, то кто? Кто-то должен нести этот груз.
– А что вы делаете для себя? Как отдыхаете?
– Отдых… – я засмеялась. – А что это такое? Последний раз я отдыхала в том смысле, в котором это понимают обычные люди, наверное, лет пять назад.
– Это неправильно. Даже лидеры имеют право на личную жизнь.
– Имеют. Но не всегда могут себе её позволить.
Он протянул руку через стол и накрыл мою ладонь своей.
– А что, если кто-то готов разделить с вами и ответственность, и радости?
Я почувствовала тепло его руки и поняла, что очень долго мне не хватало именно этого – простого человеческого прикосновения.
– Алексей, вы понимаете, во что ввязываетесь? Рядом со мной нет спокойной жизни. Только проблемы, кризисы, постоянное напряжение.
– Я понимаю, – серьёзно ответил он. – И я готов.
В эту ночь я впервые за много лет не видела мистических снов. Спала крепко и спокойно, и проснулась с ощущением, что в моей жизни появилось что-то новое и важное.
Утром нас ждали новости из Москвы. Лена сообщила по видеосвязи, что ночью произошёл инцидент на экспериментальной биоэнергетической станции Дмитрия.
– Что случилось? – спросила я, чувствуя, как сердце сжимается от тревоги.
– Сбой в системе охлаждения. Температура в реакторе поднялась выше нормы, и водоросли начали мутировать. Дмитрий успел активировать аварийную систему, но…
– Но?
– Но несколько тонн биоматериала попало в близлежащий пруд. Рыба начала дохнуть, вода позеленела. Местные жители в панике.
Я закрыла глаза. Именно этого я и боялась. Теория – это одно, а практика – совсем другое.
– Есть жертвы среди людей?
– Нет, слава богу. Но экологический ущерб серьёзный. И что ещё хуже – новости уже распространились. Противники биотехнологий кричат: "Мы же говорили!"
– Где сейчас Дмитрий?
– В больнице. У него нервный срыв.
Я понимала его состояние. Никто не хочет, чтобы его изобретение причинило вред.
– Алексей, – обратилась я к нему, – боюсь, нам придётся срочно возвращаться в Москву.
– Конечно. Но Татьяна… Помните, что вы не одна. Что бы ни случилось, мы справимся вместе.
В самолёте я думала о том, как быстро может изменить всё одна небольшая техническая неисправность. Вчера мы праздновали научный прорыв, сегодня расхлёбываем последствия катастрофы.
И ещё я думала о том, что в моей жизни действительно появился человек, который готов разделить со мной все трудности. Это была новая и пока непривычная мысль, но очень тёплая.
Глава 3. Цена прогресса
Москва встретила нас тревожной атмосферой. Уже в аэропорту я заметила необычное количество охранников, а Лена сообщила, что в городе прошли несколько демонстраций против "опасных экспериментов".
Первым делом мы поехали на место происшествия. Экспериментальная станция находилась в тридцати километрах от города, в промышленной зоне, которая раньше считалась мёртвой из-за радиационного заражения. Теперь радиация почти исчезла, но появилась новая угроза.
Картина была действительно удручающей. Пруд, куда попали мутировавшие водоросли, больше напоминал зелёное болото. По берегам лежала дохлая рыба, а вода источала неприятный химический запах. Местные жители – работники станции и их семьи – стояли поодаль с мрачными лицами.
– Татьяна Михайловна! – подбежал ко мне Василий Петров, начальник станции. – Слава богу, вы приехали. Люди в панике, требуют закрыть всё и уволить Дмитрия Северова.
– А каково ваше мнение? – спросила я.
– Честно? Я думаю, мы поторопились. Дмитрий – гениальный учёный, но он недооценил риски. Система аварийного отключения сработала, но с опозданием.
– Почему с опозданием?
– Автоматика не распознала начальную стадию мутации. Датчики были настроены на другие параметры.
Я осмотрела территорию, поговорила с работниками, изучила протоколы происшествия. Картина постепенно прояснялась. Авария была вызвана не принципиальными недостатками технологии, а недоработкой системы безопасности. Это означало, что проблему можно решить, но требовалось время и дополнительные исследования.
– Татьяна, – подошёл ко мне Алексей, когда я заканчивала осмотр, – я разговаривал с местными жителями. Они готовы дать технологии второй шанс, но при условии, что будут созданы более надёжные системы контроля.
– А что говорят экологи?
– Ущерб серьёзный, но обратимый. Пруд можно очистить за два-три месяца. Главное – не допустить распространения мутантных водорослей в другие водоёмы.
Мы вернулись в город к вечеру. Меня ждало экстренное заседание Совета, на котором предстояло решить судьбу биоэнергетической программы.
Дмитрий уже был выписан из больницы, но выглядел ужасно. Глаза покраснели от бессонной ночи, руки дрожали.
– Татьяна, я готов уйти в отставку, – сказал он, едва я вошла в зал заседаний. – Это моя ошибка, и я несу за неё ответственность.
– Дмитрий, отставка – это не решение проблемы. Расскажите, что именно произошло и как можно этого избежать в будущем.
Он подробно объяснил причины аварии. Основная проблема заключалась в том, что мутация водорослей началась не из-за высокой температуры, как предполагалось, а из-за взаимодействия с микроэлементами в охлаждающей воде.
– То есть, мы просто не учли всех факторов? – уточнила Анна Петрова.
– Именно. Лабораторные условия не могли воспроизвести всю сложность реальной среды.
– И сколько времени нужно, чтобы разработать более совершенную систему? – спросила я.
– Минимум год. Нужно провести дополнительные исследования, протестировать различные сценарии, создать многоуровневую защиту.
Мария Волкова, которая до этого молчала, наконец высказалась:
– Татьяна, а стоит ли вообще продолжать эти эксперименты? Может быть, лучше сосредоточиться на традиционных методах энергетики?
– Мария, традиционные методы тоже не безупречны. Угольные станции загрязняют воздух, атомные – создают радиоактивные отходы. Любая технология имеет риски.
– Но здесь мы создаём новые риски, природа которых нам до конца неясна!
– А если мы не будем развиваться, то останемся на уровне каменного века, – возразил Дмитрий. – Да, я допустил ошибку. Но это не значит, что нужно отказаться от прогресса.
Спор мог продолжаться бесконечно. Я поняла, что нужно принимать решение.
– Вот что мы сделаем, – сказала я. – Программу биоэнергетики не закрываем, но ставим на паузу. Дмитрий получает год на доработку технологии. Все исследования переносятся в специально созданные лаборатории с максимальными мерами безопасности. И никаких экспериментов в промышленных масштабах до полного завершения испытаний.
– А как быть с общественным мнением? – спросила Лена. – После сегодняшней аварии люди вряд ли поддержат продолжение экспериментов.
– Поэтому мы будем максимально открытыми. Создадим общественную комиссию, которая будет следить за ходом исследований. Любой желающий сможет получить информацию о том, что и как мы делаем.
Это решение устроило не всех, но было разумным компромиссом между осторожностью и прогрессом.
После заседания я долго разговаривала с Дмитрием один на один.
– Знаешь, Дмитрий, я понимаю твоё состояние. Когда твоё детище причиняет вред вместо пользы, это больно.
– Татьяна, а что, если я действительно не прав? Что, если человечество ещё не готово к таким технологиям?
– А что, если готово, но мы просто слишком торопимся? Любое великое изобретение проходит стадию проб и ошибок.
– Но мои ошибки могут стоить жизни людям!
– Именно поэтому мы и усиливаем меры безопасности. Дмитрий, я верю в твою технологию. Но я также верю в необходимость осторожности.
Он ушёл более спокойным, а я осталась размышлять о балансе между инновациями и стабильностью. Это была одна из главных дилемм нашего времени.
Вечером Алексей пригласил меня на прогулку по восстановленному Арбату. Улица была красиво подсвечена, работали кафе, люди гуляли и казались счастливыми. Трудно было поверить, что всего пять лет назад здесь были руины.
– Знаешь, Алексей, иногда я завидую обычным людям, – сказала я, когда мы сидели в маленьком кафе за чашкой кофе. – Они могут просто наслаждаться жизнью, не думая о глобальных проблемах.
– А разве вы не наслаждаетесь? Разве не испытываете радость, видя, как восстанавливается мир?
– Испытываю. Но это другая радость – радость от работы, а не от жизни самой по себе.
– Может быть, пора научиться совмещать то и другое?
Он взял меня за руку, и я почувствовала, как моё напряжение постепенно уходит. Рядом с ним я действительно могла позволить себе быть просто женщиной.
– Алексей, а что вы чувствовали, когда впервые увидели меня? – спросила я.
– Узнавание, – ответил он без колебаний. – Как будто я встретил человека, которого искал всю жизнь, но не знал об этом.
– Это же невозможно. Мы совсем не знали друг друга.
– А вы разве не чувствовали чего-то похожего?
Я задумалась. Действительно, с первой встречи между нами была какая-то особая связь.
– Возможно, – призналась я. – Но я привыкла не доверять первым впечатлениям.
– А вторым? Третьим?
– Вторые и третьи впечатления только подтверждают первые, – улыбнулась я.
Мы вернулись поздно. У входа в мой дом Алексей остановился.
– Татьяна, можно… можно остаться?
Вопрос застал меня врасплох. С одной стороны, я чувствовала к нему сильное влечение. С другой – в моей жизни уже давно не было места для близких отношений.
– Алексей, я… Мне нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах.
– Конечно, – понял он. – Я не тороплю вас. Просто хочу, чтобы вы знали: я готов ждать, сколько потребуется.
Он поцеловал меня в щёку и ушёл. А я долго стояла у окна, глядя на ночную Москву и думая о том, что значит быть счастливой.
Глава 4. Новые угрозы
Утро началось с экстренного звонка от Михаила Воронова. Его голос звучал встревоженно:
– Татьяна, у нас проблемы на востоке. Серьёзные проблемы.
Я быстро оделась и поехала в штаб. Там меня ждала карта Сибири, покрытая красными точками.
– Что это? – спросила я, указывая на карту.
– Военные базы Восточной Империи, – ответил Михаил. – За последние две недели они захватили территорию от Новосибирска до Иркутска.
– Как захватили? Кто они такие?
– Судя по всему, это объединение местных военных группировок под командованием некоего генерала Тарасова. Бывший офицер Генштаба, которого считали погибшим в первые дни войны.
Лена подключилась к разговору:
– Мы получили несколько радиосообщений от беженцев. Тарасов проводит политику "железной руки" – принудительная мобилизация, жёсткий контроль над ресурсами, расстрелы за неповиновение.
– А какая у них численность?
– По нашим оценкам, около ста тысяч человек под ружьём и примерно миллион мирного населения под контролем.
Это были серьёзные цифры. Если Тарасов действительно создал военизированное государство в Сибири, это представляло угрозу для всей Конфедерации.
– А что известно о их целях? – спросила я.
– Они называют себя "законными наследниками Российской империи" и заявляют о намерении "восстановить порядок на всей территории бывшего СССР".
– То есть, они планируют напасть на нас?
– Пока неясно. Но их войска движутся на запад.
Я изучила карту внимательнее. Стратегическое положение Восточной Империи было очень выгодным – они контролировали большую часть сибирских ресурсов и имели доступ к тихоокеанскому побережью.
– А что с нашими военными возможностями? – спросила я у Михаила.
– У нас около пятидесяти тысяч человек в Народной гвардии, плюс региональные ополчения. По численности мы уступаем, но наше вооружение лучше.
– Михаил, я категорически против превентивной войны. Но нам нужно быть готовыми к обороне.
– Я уже отдал соответствующие распоряжения. Усиливаем охрану восточных границ, проводим мобилизацию резервистов.
В этот момент в кабинет ворвалась Анна Петрова с ещё одной неприятной новостью:
– Татьяна, у нас эпидемия в Нижнем Новгороде!
– Какая эпидемия?
– Неизвестная вирусная инфекция. Симптомы похожи на грипп, но болезнь протекает гораздо тяжелее. За три дня заболело больше тысячи человек.
– Есть летальные исходы?
– Пока нет, но состояние многих пациентов критическое.
Я почувствовала, как голова идёт кругом. Военная угроза на востоке, эпидемия в центре – словно все проблемы сваливались на нас одновременно.
– Анна, какова вероятность того, что это биологическое оружие?
– Мы рассматриваем эту версию. Но пока данных недостаточно.
– А связь с аварией на биостанции?
– Исключена. Вирус имеет совершенно другую природу.
Я приняла решение:
– Анна, немедленно вылетайте в Нижний Новгород с группой лучших специалистов. Установите карантин, но без паники. Михаил, продолжайте укреплять оборону, но никаких провокационных действий в отношении Империи. Лена, попробуйте установить дипломатический контакт с Тарасовым. Может быть, удастся договориться без кровопролития.
– А как быть с народными советами? – напомнила Лена. – Выборы в трёх пилотных регионах должны пройти через неделю.
– Проводим по плану. Кризис – не повод отказываться от демократии. Наоборот, в трудные времена особенно важно, чтобы люди чувствовали свою причастность к принятию решений.
После того, как все разошлись, я осталась одна в кабинете. На улице шёл дождь, и серые тучи над Москвой казались зловещим предзнаменованием.
В дверь постучали. Вошёл Алексей с подносом чая и бутербродами.
– Подумал, что вы забыли позавтракать, – сказал он.
– Спасибо, – улыбнулась я. – Действительно забыла.
Он сел напротив и некоторое время молча смотрел, как я ем.
– Тяжёлое утро? – спросил он наконец.
– Одно из самых тяжёлых за последние годы. Военная угроза, эпидемия… Иногда мне кажется, что мир испытывает нас на прочность.
– А может быть, мир просто показывает, насколько мы выросли? Пять лет назад любая из этих проблем могла уничтожить нас. Сейчас мы способны с ними справиться.
– Вы так думаете?
– Я в этом уверен. Татьяна, вы создали не просто государство – вы создали систему, которая может адаптироваться к любым вызовам.
Его слова придали мне сил. Да, проблемы были серьёзными, но мы действительно больше не были горсткой выживших в руинах. Мы стали цивилизацией.
– Алексей, а что бы вы сделали на моём месте? С Империей, я имею в виду.
– Попытался бы понять мотивы Тарасова. Если он просто хочет власти – с этим сложно договориться. Но если он искренне считает свои методы единственным способом выживания – можно попробовать его переубедить.
– А если переубедить не удастся?
– Тогда придётся защищаться. Но лучше сначала исчерпать все мирные способы.
Вечером мне удалось связаться с генералом Тарасовым по защищённому каналу. На экране появился мужчина лет шестидесяти, с седыми усами и жёсткими глазами. Он был в военной форме, украшенной многочисленными орденами.
– Татьяна Королёва, – сказал он вместо приветствия. – Наконец-то мы можем поговорить.
– Генерал Тарасов. Рада, что вы согласились на переговоры.
– Переговоры? – усмехнулся он. – Я скорее назвал бы это ультиматумом.
– Каким ультиматумом?
– Ваша так называемая Конфедерация – это анархия, замаскированная под демократию. Народ нуждается в сильной руке, в порядке, в дисциплине. Я готов предложить вам добровольную интеграцию в Восточную Империю на почётных условиях.
– А если мы откажемся?
– Тогда мы будем вынуждены восстановить порядок силой.
Его тон не оставлял сомнений в серьёзности угрозы.
– Генерал, а что вы понимаете под порядком? Расстрелы несогласных? Принудительную мобилизацию?
– Я понимаю под порядком выживание человечества. За пять лет вашего правления Россия так и не восстановила свою мощь. Вы тратите время на игры в демократию, вместо того чтобы готовиться к новым угрозам.
– А какие новые угрозы вы имеете в виду?
– Вы думаете, мы единственные выжившие? В Китае, в Америке, в Европе тоже есть военные группировки. И когда они придут за нашими ресурсами, ваши народные советы и демократические процедуры не спасут.
В его словах была доля правды, и это беспокоило.
– Генерал, допустим, вы правы насчёт внешних угроз. Но разве сильное государство не может быть одновременно и демократическим?
– Демократия – это роскошь мирного времени. В эпоху выживания нужна диктатура.
– А что будет, когда эпоха выживания закончится? Диктатура сама себя ликвидирует?
Он помолчал, явно не ожидая такого вопроса.
– Это дело будущих поколений, – сказал он наконец.
– Нет, генерал. Это дело настоящего. Если мы построим диктатуру сейчас, наши дети унаследуют диктатуру. А их дети – тоже.
– Лучше живые дети под диктатурой, чем мёртвые дети при демократии.