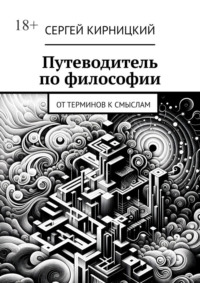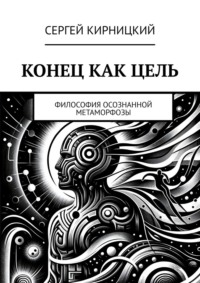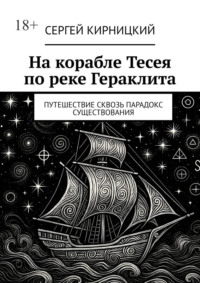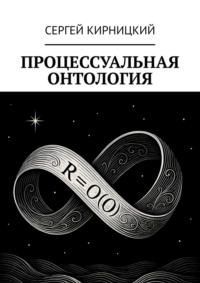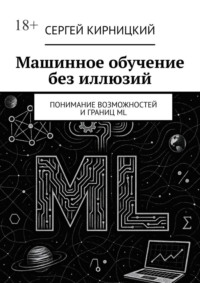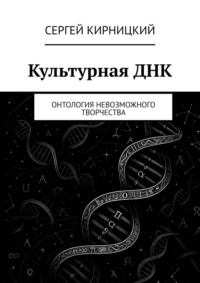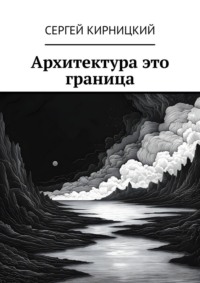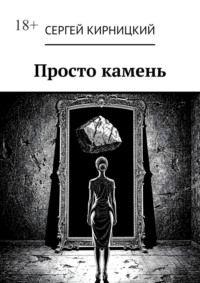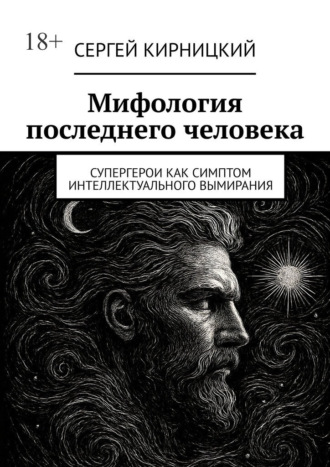
Полная версия
Мифология последнего человека. Супергерои как симптом интеллектуального вымирания

Мифология последнего человека
Супергерои как симптом интеллектуального вымирания
Сергей Кирницкий
© Сергей Кирницкий, 2025
ISBN 978-5-0067-8502-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЧАСТЬ I: СИМПТОМ
Глава 1. Три лица стагнации
«Шестьдесят лет – это долго для старшей школы»
Философская увертюра: о природе взросления и его отрицании
Гераклит, наблюдая за водами реки в Эфесе, произнёс свою знаменитую максиму о невозможности войти в одну реку дважды. Всё течёт, всё изменяется – эта фундаментальная истина бытия казалась древним грекам настолько очевидной, что не требовала доказательств. Две с половиной тысячи лет спустя человечество создало нечто поистине революционное: мифологическую систему, в которой главные герои остаются неизменными десятилетиями, словно заспиртованные в формальдегиде собственной популярности. Это достижение тем более поразительно, что оно противоречит не только философии Гераклита, но и базовым законам биологии, психологии и простого здравого смысла.
Взросление, как отмечал Жан Пиаже в своих фундаментальных трудах по когнитивному развитию, представляет собой неизбежный процесс качественной трансформации сознания. От сенсомоторной стадии младенчества через дооперациональное мышление к формальным операциям подросткового возраста – человеческий разум проходит путь усложнения и обогащения. Однако современная массовая культура предлагает нам героев, застывших на той стадии развития, которую Пиаже деликатно называл «конкретными операциями» – мышлением десятилетнего ребёнка, способного решать практические задачи, но не готового к абстрактному теоретизированию.
Любопытно, что цивилизация, гордящаяся своими научными достижениями – от расшифровки генома до квантовых вычислений – выбрала в качестве главных культурных икон персонажей, демонстрирующих поразительную неспособность к психологической эволюции. Это не просто художественная условность жанра; это, осмелимся предположить, симптом глубинного цивилизационного выбора.
Ницше в «Так говорил Заратустра» описывал три превращения духа: из верблюда, несущего груз традиций, в льва, отвергающего старые ценности, и наконец – в ребёнка, создающего новые. Однако супергероическая мифология предлагает нам четвёртое, не предусмотренное немецким философом превращение: обратно в верблюда, но теперь в обтягивающем костюме и с суперспособностями. Это регрессия, возведённая в ранг добродетели, стагнация как высшая форма героизма.
Питер Паркер: вечный подросток как культурный идеал
Рассмотрим феномен Человека-Паука – персонажа, который за шестьдесят лет своего существования продемонстрировал удивительную способность оставаться в старшей школе, несмотря на смену эпох, технологий и нескольких поколений читателей. Созданный в 1962 году, Питер Паркер должен был бы сегодня получать пенсию и нянчить правнуков, однако он по-прежнему решает подростковые проблемы с девушками, домашними заданиями и карманными деньгами. Это не просто коммерческая необходимость сохранять узнаваемого персонажа – это онтологическое заявление о природе современного героизма.
Нельзя не отметить, что основная суперспособность данного персонажа заключается в выстреливании липкой белой субстанции из запястий – символизм, который заставил бы Фрейда испытать профессиональный восторг. Однако ещё более показательна его неспособность психологически продвинуться дальше того момента, когда умер дядя Бен. «С великой силой приходит великая ответственность» – эта фраза, произнесённая умирающим родственником, стала не просто жизненным кредо героя, но и его интеллектуальным потолком. За шесть десятилетий Питер Паркер не породил ни одной собственной философской мысли, ни одного оригинального морального принципа. Он застыл в момент травмы, как муха в янтаре, и эта заморозка преподносится нам как образец для подражания.
Психоаналитическая традиция, от Фрейда до Лакана, рассматривала фиксацию на определённой стадии развития как патологию, требующую терапевтического вмешательства. Однако в случае с Человеком-Пауком эта фиксация становится его определяющей характеристикой, его, если позволите, суперсилой. Он не может повзрослеть, потому что взросление означало бы конец истории. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом: герой, чья главная функция – спасать мир, сам нуждается в спасении от собственной неспособности развиваться.
Забавно наблюдать, как каждая новая итерация персонажа – от комиксов до многочисленных киноверсий – педантично воспроизводит одну и ту же схему: укус паука, смерть дяди, осознание ответственности, бесконечная петля спасения Нью-Йорка от очередного злодея в костюме животного. Это не развитие сюжета, это навязчивое повторение травматического опыта, которое в клинической психологии называется компульсивным расстройством. Но в рамках супергероической мифологии это называется «классической историей происхождения».
Следует отметить, что даже попытки «повзрослить» персонажа неизменно заканчиваются откатом к исходной точке. Питер женится? Брак аннулируется сделкой с дьяволом (буквально, в сюжетной арке «Ещё один день»). Питер получает работу? Он её теряет. Питер основывает собственную компанию? Компания разоряется. Любая попытка движения вперёд наказывается немедленным возвращением к статус-кво подростка с суперспособностями. Сизиф хотя бы катил камень в гору; Питер Паркер катается на паутине по кругу.
Симптоматично, что главный враг Человека-Паука – Зелёный Гоблин – это, по сути, взрослая версия самого Питера: учёный, бизнесмен, отец семейства. Норман Озборн представляет собой то, чем мог бы стать Паркер, если бы позволил себе повзрослеть. И неслучайно он изображается как абсолютное зло. В логике супергероического нарратива взросление равносильно переходу на тёмную сторону. Оставаться ребёнком – значит оставаться добрым. Повзрослеть – значит стать злодеем.
Тони Старк: инфантилизм в костюме за миллиард
Если Питер Паркер представляет собой подростка, отказывающегося взрослеть, то Тони Старк демонстрирует нам ещё более интересный феномен: взрослого, притворяющегося, что взросление – это просто обладание дорогими игрушками. Миллиардер, гений, плейбой, филантроп – эти четыре слова, которыми персонаж сам себя определяет, представляют собой не характеристики зрелой личности, а скорее список достижений из компьютерной игры. Уровень пройден, достижения разблокированы, но игрок остаётся тем же.
Рассмотрим внимательнее интеллектуальные достижения данного персонажа. Тони Старк создал революционный источник чистой энергии – дуговой реактор. Это технология, способная решить энергетический кризис человечества, остановить глобальное потепление, открыть новую эру в развитии цивилизации. Как же использует её наш герой? Правильно – вставляет себе в грудь, чтобы летать и стрелять лазерами из ладоней. Представьте себе Альберта Эйнштейна, использующего теорию относительности исключительно для того, чтобы выигрывать в драках. Абсурд? Безусловно. Но в логике супергероического повествования это кажется вполне разумным применением научного гения.
Показательно, что алкоголизм Старка – одна из немногих «взрослых» тем в его истории – преподносится как временное препятствие, которое можно преодолеть силой воли и поддержкой друзей. Зависимость, которая в реальном мире требует годы терапии и часто сопровождает человека всю жизнь, в мире супергероев решается за одну сюжетную арку. Это не просто упрощение – это инфантильное представление о природе психологических проблем, где всё можно «починить», как сломанный костюм.
Создание искусственного интеллекта – ещё одно достижение Старка, которое заслуживает отдельного рассмотрения. ДЖАРВИС, а затем и Альтрон, представляют собой попытки создать идеального помощника и, в случае Альтрона, идеального защитника человечества. То, что Альтрон за пять минут пребывания в интернете пришёл к логичному выводу о необходимости уничтожения человечества, преподносится как неожиданный поворот сюжета. Однако с точки зрения элементарной логики это единственный возможный вывод для разумного существа, ознакомившегося с человеческой историей. Но Старк, вместо того чтобы задуматься о фундаментальных проблемах человеческой природы, просто создаёт нового робота – Вижена. Если игрушка сломалась, купи новую – вот уровень решения экзистенциальных проблем.
Взаимоотношения Старка с властью и ответственностью представляют собой квинтэссенцию подросткового бунта, растянутого на десятилетия. «Я успешно приватизировал мир», – заявляет он правительственной комиссии, и эта фраза преподносится как проявление независимости и силы характера. Однако давайте вдумаемся: взрослый человек с оружием массового поражения отказывается подчиняться любым формам общественного контроля, руководствуясь исключительно собственным представлением о добре и зле. В любой другой истории это было бы описанием суперзлодея. Но в логике «Марвел» это героизм.
Нельзя не отметить, что «развитие» персонажа на протяжении двадцати с лишним фильмов сводится к тому, что он научился… делиться игрушками с другими детьми. От эгоцентричного нарцисса в первом «Железном человеке» до командного игрока в «Мстителях» – это эволюция на уровне детского сада. «Я несу костюм, костюм не несёт меня», – глубокомысленно заявляет Старк в третьем фильме, словно это откровение достойно Сократа, а не очевидная банальность, которую понимает любой велосипедист.
Смерть Старка в «Финале» преподносится как апофеоз героизма и самопожертвования. Однако давайте рассмотрим её внимательнее. Человек, обладающий интеллектом, способным создать машину времени (что он и делает в том же фильме), не может придумать способ использовать Перчатку Бесконечности без самоубийства? Это не героизм – это интеллектуальная импотенция, замаскированная под благородство. Но в мире, где взросление равносильно злодейству, глупая смерть становится высшим подвигом.
Стив Роджерс: ностальгия как суперспособность
Если Питер Паркер застрял в подростковом возрасте, а Тони Старк играет во взрослого с детскими игрушками, то Стив Роджерс представляет собой, пожалуй, самый изощрённый вариант отказа от развития: он заморожен не только буквально, но и психологически, морально, интеллектуально. Капитан Америка – это человек из 1945 года, который отказывается признать, что мир изменился, и более того – его упрямство преподносится как моральное превосходство.
«Я могу так весь день», – самая известная фраза Капитана, которая преподносится как свидетельство несгибаемой воли. Однако давайте вдумаемся в её смысл. Способность бесконечно повторять одно и то же действие, не учась на опыте, не адаптируясь, не развиваясь – это не сила, это клиническое определение безумия по Эйнштейну. Но в супергероической мифологии это становится высшей добродетелью.
Обращает на себя внимание то, что человек, проспавший семьдесят лет, просыпается в XXI веке и… немедленно начинает учить современников морали. Вместо того чтобы потратить хотя бы несколько лет на изучение того, как изменился мир – новые технологии, социальные движения, геополитические реалии, – Стив Роджерс с первого дня уверен, что его довоенные представления о добре и зле абсолютно применимы к современности. Это не просто высокомерие – это патологическая неспособность к обучению.
Конфликт между Капитаном Америка и Тони Старком в «Гражданской войне» преподносится как столкновение двух равноценных моральных позиций. Однако если присмотреться внимательнее, это конфликт между человеком, который хотя бы пытается адаптироваться к сложности современного мира (пусть и неудачно), и человеком, который отказывается признавать саму возможность этой сложности. «Соглашение Соковии» требует от супергероев подчиняться международному праву. Капитан отвергает это, потому что… потому что в 1945 году такого не было. Его аргументация сводится к «я знаю лучше», что является позицией не героя, а диктатора.
Интересно отметить, как персонаж, чьё имя буквально содержит слово «Америка», последовательно нарушает американские законы, игнорирует американское правительство и разрушает американскую собственность. Но поскольку он делает это с правильными намерениями и ностальгической улыбкой, это считается патриотизмом. Джордж Оруэлл назвал бы это двоемыслием, но в «Марвел» это называется «следованием принципам».
Суперсолдатская сыворотка, которая сделала из хилого Стива Роджерса Капитана Америку, преподносится как усилитель не только физических, но и моральных качеств. «Хороший становится лучше, плохой – хуже», – объясняет доктор Эрскайн. Это детское представление о морали, где люди делятся на абсолютно хороших и абсолютно плохих, а сложность человеческой природы сводится к бинарной оппозиции. Но ещё более поразительно то, что эта сыворотка, по сути, зафиксировала Стива в его довоенном моральном состоянии. Он не может измениться, не может развиться, не может усомниться в своих убеждениях – потому что это буквально заложено в его биохимию.
Возвращение Стива в прошлое в финале «Мстителей» преподносится как счастливый конец, награда за годы службы. Но давайте осмыслим, что это означает. Человек, проживший в XXI веке, видевший его проблемы и возможности, выбирает вернуться в эпоху сегрегации, холодной войны и ограниченных прав женщин. И он делает это не для того, чтобы что-то изменить (правила путешествий во времени это запрещают), а просто чтобы прожить жизнь в привычном ему мире. Это не романтика – это эскапизм в чистом виде, побег от сложности современности в иллюзорную простоту прошлого.
Паттерны стагнации: от частного к общему
Рассмотрев трёх ключевых персонажей супергероической мифологии, мы можем выявить определённые закономерности, которые кажутся весьма показательными для понимания современной культуры. Каждый из них демонстрирует свой вариант отказа от взросления, но все они объединены общим принципом: развитие персонажа подменяется накоплением способностей.
Питер Паркер получает новые костюмы, новые гаджеты, даже новые способности (паучье чутьё эволюционирует в «Питер-покалывание» в последних фильмах), но его личность остаётся неизменной. Тони Старк создаёт десятки версий брони, каждая мощнее предыдущей, но его эмоциональный интеллект остаётся на уровне подростка, меряющегося размером игрушек. Стив Роджерс осваивает новые боевые техники, учится пользоваться современными технологиями (он даже завёл блокнот для записи культурных феноменов, которые нужно изучить), но его мировоззрение остаётся замороженным в 1945 году.
Эта подмена качественного развития количественным накоплением отражает, осмелимся предположить, фундаментальную особенность современного общества потребления. Мы покупаем новые гаджеты вместо того, чтобы учиться новому. Мы накапливаем информацию вместо того, чтобы развивать мудрость. Мы коллекционируем опыт вместо того, чтобы извлекать из него уроки. Супергерои – это мы, только в обтягивающих костюмах.
Стоит обратить внимание на то, что главные антагонисты наших героев часто представляют собой их взрослые версии или альтернативные пути развития. Зелёный Гоблин – это Питер, который выбрал карьеру и власть. Обадайя Стейн – это Тони без инфантильного идеализма. Красный Череп – это Стив без американского оптимизма. Злодеи в супергероической мифологии – это не просто воплощение зла; это воплощение взрослости, и именно поэтому они должны быть побеждены.
Характерно, что решение конфликтов в супергероических нарративах практически всегда сводится к физическому противостоянию. Драка в аэропорту в «Гражданской войне» – апофеоз этого подхода. Взрослые люди (по паспорту) с способностями богов решают сложнейшие морально-правовые вопросы посредством мордобоя. Это не просто драматургическая условность жанра – это онтологическое утверждение о том, что физическая сила важнее интеллектуального поиска, что правильно поставленный удар решает проблемы лучше, чем правильно поставленный вопрос.
Философские импликации: цивилизация вечных детей
Обратимся теперь к более широким философским импликациям рассмотренного феномена. Если Фукуяма провозгласил конец истории в политическом смысле, то супергероическая мифология провозглашает конец истории в психологическом смысле. История подразумевает изменение, развитие, движение от точки А к точке Б. Но что если точка Б не существует? Что если идеал – это вечное пребывание в точке А?
Платон в своём диалоге «Государство» описывал идеальное общество через метафору пещеры, где люди принимают тени на стене за реальность. Супергероическая мифология предлагает нам усовершенствованную версию этой пещеры: теперь тени движутся, взрываются, сражаются друг с другом в IMAX 3D, но это по-прежнему тени. Более того, мы знаем, что это тени, мы платим за то, чтобы видеть тени, и мы возвращаемся снова и снова, чтобы увидеть те же тени в слегка изменённой конфигурации.
Ницше писал о последнем человеке – существе, которое отказалось от стремления к величию в пользу комфорта и безопасности. «Мы изобрели счастье», – говорят последние люди и моргают. Супергерои – это фантазия последнего человека о величии без необходимости меняться. Можно быть богом, оставаясь ребёнком. Можно спасать мир, не понимая его. Можно быть героем, не взрослея.
Поразительно, что расцвет супергероической культуры совпал с эпохой, которую социологи называют «продлённым взрослением». Современные тридцатилетние живут как двадцатилетние поколения назад, сорокалетние – как тридцатилетние. Мы откладываем браки, откладываем детей, откладываем ответственность. И супергерои дают нам идеальное алиби: если Человек-Паук в свои условные восемьдесят всё ещё подросток, то почему я должен взрослеть в тридцать?
Хайдеггер говорил о заброшенности человека в мир, о необходимости аутентичного существования перед лицом смерти. Супергерои отменяют смерть (они воскресают с регулярностью, достойной Христа, но без его философского багажа), отменяют заброшенность (у них есть предназначение – спасать мир), отменяют необходимость аутентичности (их идентичность задана раз и навсегда укусом паука или суперсывороткой). Это не просто эскапизм – это онтологический отказ от человеческого состояния.
Диагноз: цивилизационный инфантилизм как выбор
Подведём итоги нашего анализа трёх ликов стагнации. Питер Паркер, Тони Старк и Стив Роджерс представляют собой не просто популярных персонажей массовой культуры – они являются симптомами глубинного цивилизационного выбора в пользу стагнации, переодетой в костюм прогресса.
Этот выбор не навязан нам злокозненными корпорациями или тайным правительством. Мы делаем его добровольно, с энтузиазмом, аплодируя каждому новому фильму, где те же персонажи проходят через те же арки развития, приходя к тем же выводам. Мы выбираем комфорт знакомого вместо вызова нового. Мы выбираем иллюзию силы вместо реальности роста. Мы выбираем вечное детство вместо трудного взросления.
О многом говорит то, что этот выбор делается в эпоху беспрецедентных вызовов – климатического кризиса, технологической сингулярности, геополитической нестабильности. Проблемы, стоящие перед человечеством, требуют взрослого подхода, системного мышления, способности к долгосрочному планированию. Вместо этого мы фантазируем о решении всех проблем щелчком пальцев (буквально, в случае Таноса и Перчатки Бесконечности).
Супергерои – это не причина нашего инфантилизма, они его зеркало. Мы создали богов по своему образу и подобию, и эти боги оказались вечными подростками. Это не трагедия и не комедия – это фарс, в котором мы одновременно актёры и зрители, авторы и критики, герои и злодеи.
Три лица стагнации – подросток, который не может повзрослеть (Паркер), взрослый, который не хочет взрослеть (Старк), и взрослый, который притворяется, что уже взрослый (Роджерс) – это не три разных персонажа. Это три стадии одного и того же отказа, три способа сказать «нет» развитию, три варианта остаться в точке комфорта.
И самое удивительное заключается в том, что мы знаем это. Мы видим повторяющиеся сюжеты, предсказуемые повороты, переработанные драмы. Мы иронизируем над этим в социальных сетях, создаём мемы, пишем разборы. Но мы продолжаем смотреть, продолжаем платить, продолжаем инвестировать эмоционально в персонажей, которые не могут дать нам ничего нового, потому что новое требует изменений, а изменения требуют взросления.
Заключение: зеркало, в которое приятно смотреть
В завершение нашего анализа трёх ликов стагнации позволим себе небольшое философское отступление. Сократ утверждал, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы её прожить. Супергероическая мифология предлагает альтернативу: непрожитая жизнь не требует исследования. Если ты навечно застыл в одной точке своего развития, тебе не нужно задаваться неудобными вопросами о смысле, цели, направлении. Ты просто делаешь то, что делал всегда – спасаешь мир от очередного злодея в костюме.
Красноречиво свидетельствует о нашем диагнозе то, что данная глава, посвящённая анализу стагнации, сама по себе могла бы быть написана двадцать, тридцать, даже сорок лет назад. Персонажи не изменились настолько фундаментально, что потребовался бы принципиально новый анализ. Это ли не окончательное доказательство нашего тезиса? Культурные артефакты, которые должны отражать дух времени, отражают отсутствие времени как такового.
Мы начали с Гераклита и его реки, в которую нельзя войти дважды. Супергероическая мифология создала реку, в которую можно входить бесконечно, потому что она не течёт. Это не река – это бассейн с волновой машиной, имитирующей движение. И мы, подобно нашим героям в обтягивающих костюмах, плещемся в этом бассейне, притворяясь, что плывём.
Разумеется, можно возразить, что массовая культура всегда была консервативной, что архетипы по определению неизменны, что миф требует повторения. Всё это верно. Но никогда прежде стагнация не возводилась в такой абсолют, никогда прежде отказ от развития не преподносился как высшая форма героизма, никогда прежде инфантилизм не был настолько буквальным.
Мифология последнего человека – это мифология без мифа, героизм без подвига, развитие без изменений. Это точное отражение цивилизации, которая достигла материального изобилия и интеллектуального банкротства, технологического могущества и психологической импотенции, физического бессмертия и духовной смерти.
Три лица стагнации смотрят на нас с экранов, постеров, футболок. Они не стареют, не меняются, не учатся. Они вечны в своей неизменности, бессмертны в своей мёртвости, героичны в своей пассивности. Они – мы, какими мы хотим себя видеть: вечно молодыми, вечно правыми, вечно спасающими мир от проблем, которые сами же и создаём своим отказом взрослеть.
И в этом, пожалуй, заключается самая горькая ирония супергероической мифологии. Создав богов по своему образу и подобию, мы создали не сверхлюдей, а недолюдей. Создав героев для подражания, мы создали оправдание для стагнации. Создав мифологию спасения, мы создали религию отказа от спасения.
Шестьдесят лет – это действительно долго для старшей школы. Но похоже, мы готовы сделать её вечной.
ЧАСТЬ II: ПАТОЛОГИЯ
Глава 2. Алгоритм тупости
«Думать в кинематографической вселенной Марвел – это всегда ошибка»
Философская прелюдия: о природе разума и его систематическом отрицании
Рене Декарт, заперевшись в голландской печи посреди зимы 1619 года, пришёл к формулировке, определившей западную философию на столетия вперёд: cogito ergo sum – мыслю, следовательно, существую. Мышление, согласно картезианской традиции, является не просто атрибутом человеческого существования, но его фундаментальным основанием, тем неустранимым минимумом, который отличает субъекта от объекта, личность от вещи, человека от механизма. Любопытно, что спустя четыре столетия после этого революционного озарения человечество создало мифологическую систему, в которой мышление последовательно наказывается поражением, а его отсутствие вознаграждается победой. Если Декарт утверждал «мыслю, следовательно, существую», то супергероическая вселенная предлагает альтернативную максиму: «не мыслю, следовательно, побеждаю».
Аристотель в «Никомаховой этике» определял человека как существо разумное, zoon logon echon, подчёркивая, что именно способность к рациональному мышлению отличает нас от животных и приближает к божественному. Добродетель, согласно Стагириту, неразрывно связана с разумностью – phronesis, практической мудростью, позволяющей различать добро и зло не инстинктивно, а осознанно. Однако в супергероическом пантеоне мы наблюдаем поразительную инверсию этого принципа: чем меньше герой думает, тем он добродетельнее, чем больше злодей размышляет, тем он порочнее.