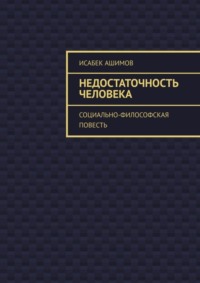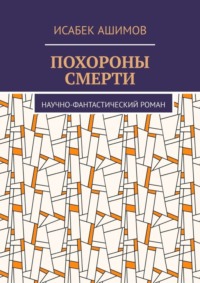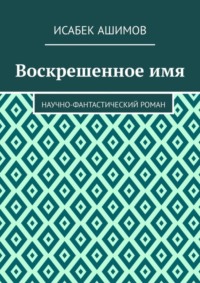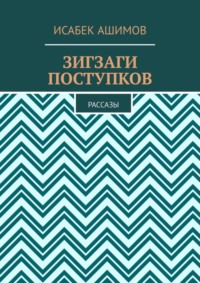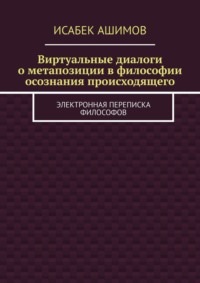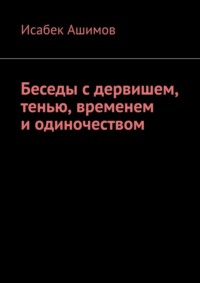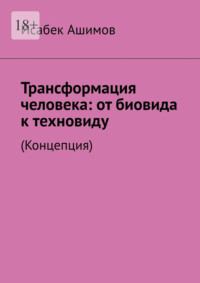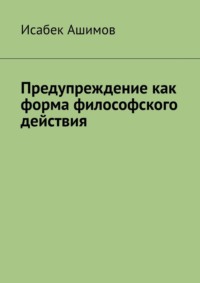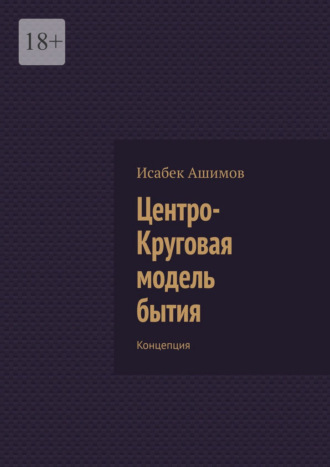
Полная версия
Центро-Круговая модель бытия. Концепция
Нужно подчеркнуть, что концепция мифа как онтологического феномена была разработана А.Ф.Лосевым. Согласно этой концепции миф есть не выдумка, но категория бытия: «Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность», – пишет он. Во многих трудах категория «добро» и «зло» – эти понятия имеют не только этический, но и онтологический смысл. При этом следует различать «добро» и «зло» от объективно приносимых блага или вреда именно по факту внутренней направленности на соответствующие результаты. Одно дело наносить ущерб в силу объективной организации данного сущего и его среды, другое – почувствовать внутреннюю ценность нанесения вреда как такового. При исследованиях по мотивам «Мифа о Тегерек» и «Неомифа о Тегерек» мы основывались на соответствующих символах, знаках и их значениях в онтологическом аспекте. При таком подходе – указанные категории, отражающие отношение сущих, выступают в качестве специфического для субъективной реальности. Любое сущее в соотношенях с другими сущими может выступать не только как таковое (как элемент объективной реальности), но и как знак, имеющий значение для носителя какой-то субъективной реальности, как сигнал, несущий для неё определенную информацию, как заместитель (репрезентант) какого-то другого сущего, снятого в данном значении или информации.
В настоящее время, потребность в обозначении смены циклов – это потребность в этиологии движения, диалектического развития мира, воплощение идеи линейности на основе энтропии. Цикл, циклизация представляет собой пример континуальности и дискретности, или иначе непрерывность и прерывность – категории, характеризующие элементы структуры как единое и многое, простое и сложное. Следует заметить, архетипы мышления содержат в себе сложно выстроенную и вариативно действующую модель мира, определяемую временными схемами разной конфигурации и сложного взаимосочетаний. С одной стороны, модель времени имеет линейно-циклический характер, определяемый дихотомиями «начальное время» / «историческое время», «сотворение мира» / «гибель мира» или триадой «прошлое – настоящее – будущее», а с другой стороны, в ней заложено циклическое начало, подпитываемое цикличностью природных, биологических и космических циклов, а также многовековой традицией философского, мифологического, религиозного мировоззрения. Взаимодействие двух схем движения (линейно-циклическое, циклическое) может создавать самые разные формы круговорота. Наиболее распространенной и целесообразной среди них является форма спиралевидного движения (см. приложения). Циклическое круговое движение в ней обеспечивается линейной направленностью и диаметром разомкнутых кругов. Идея цикличности у Ф. Гегеля (1770—1831) выразилась в законе отрицание отрицания, выражающем идею спиралевидности развития
В целом, весь комплекс представлений о циклической и линейно-циклической модели мира оказал огромное влияние на развитие философской, мифологической и религиозной мысли человечества в целом. Большую роль циклическая модель мироздания играла в концепциях античных философов (Платон, Сократ, Диоген и др.). Согласно концепций христианских философов циклична космология, цивилизация, культура, общество, история, а также сам человек с его разумом по восходящей линии. Последняя идея, хорошо отражена в исследованиях Ф. Гегеля, А. Тюрго, Ж. Кондорсе, И.Г.Гердера. Большую известность получили концепции К. Ясперса, А. Тойнби, О. Шпенглера, Н.Я.Данилевского, П. Сорокина и др. Следует подчеркнуть тот факт, что концепции циклического развития онтологических, исторических, культурных, цивилизационных и др. процессов в той или иной мере отмечают роль циклических элементов в развитии менталитета народов и народностей, творческой их составляющей, что никак не может не отразится в научной, мифологической, художественной рефлексии, и в их интуициях. Именно, благодаря им идеи, принципы и концепции цикличности бытия получили большое распространение в мире, расширили свое пространство и время. По определению Ю.М.Лотмана (1922—1993) «художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений». Действительно, художественное пространство и время образуют пространственно-временной континуум, отражающий как специфические особенности данного произведения, индивидуальные особенности творческого мировосприятия писателя, так и ряд устойчивых представлений об универсуме, характерных для его эпохи, культуры, коллективного бессознательного. Следуя такой концепции в нашей работе мы пытались осмыслить природу и диалектику взаимоотношения «пространство» / «времени» мифа «Тегерек» и «пространство» / «времени» неомифа «Проклятье Круга Зла», в синхронном и диахронном литературно-философском контексте. Да и в других научно-философских работах и литературно-философских сочинениях, подчеркивая круговращения Зла, вечности и цикличность ее сути и природы, как одну из ключевых гносеонтологических категории, как универсальный принцип мироощущения человека и общества, мы пытались раздвинуть панораму исследования проблемы итератизма.
Наша концепция итератизма. Нужно признать, что теоретическая разработка проблем циклизации, цикличности и циклов не являлась нашей главной целью и задачей. Эти проблемы гносеонтологии носят глобальный характер и являются предметом философии высокого уровня. Наша задача заключалась охарактеризовать контуры нового философского направления – итератизма, как нового учения о круге, круговращении. Среди группы терминологических обозначений – итератизм еще не принят и наша попытка найти для него наиболее определенный статус как понятие нужно воспринимать правильно. Будем надеяться на то, что со временем значение понятия «итератизм» получит разъяснение на словарном, теоретико-литературном, философско-методологическом уровнях. Безусловно, даже сам термин «итератизм» имеет много совпадающих оттенков значения (круг, круговращение, кругооборот, окружность, цикл, цикличность, итерация и пр.) и, одновременно, много дополнительных смыслов (вечность, непрерывность, неразрывность и пр.). Однако, для нас важно то, что дополнительный смысл понятия «итератизм» может быть более востребован, чем вышеприведенные понятия. Хотим отметить, что во всех наших научно-художественных, философских, методологических произведениях, мы предпочитаем обозначать этот самый дополнительный смысл понятия «интертизм». В текстовом контенте мифа «Тегерек» и неомифа «Проклятье Круга Зла», а также в нашей авторской «Теории мифоконструкции» и «Теории формирования и изменения состояния современной научно-мировоззренческой культуры» (Научное открытие, М.,2018) суть понятия «итератизм» выражен более детально.
Таким образом, итератизм выступает как определенное, более широкое внутреннее свойство, обозначая некий принцип, который может быть реализован в композиции нового сверхтекстового единства (итератизм как учение). На основе такого значения развивается и понимание все понятия, перечисленные выше: круг, круговращение, кругооборот, окружность, цикл, цикличность, итерация и пр. На наш взгляд, так должно трактоваться учение о круге, круговращении в аспекте гноселого-онтолого-атропологии. На наш взгляд, интертизм будет способствовать онтологической, гносеологической, исторической, культурологической, цивилизационной целостности философских мыслей, идей, концепций, теорий. В нашем понимании, «итератизм» – это учение о круге, круговращении, это процесс исследования, изучения, поиск новых знаний, их смыслов и результатов применения, это процесс создания и развития циклов, которые могут лежать как в пространстве авторской воли, так, в некоторых случаях, и вне ее. Естественно, возникнут споры, сомнения, откровенные непонимания и признание неприемлемости итератизма как учения. Однако, коль итератизм на научной основе выделяет, обособляет, идентифицирует в каждом тексте и произведениях в целом, феномены круга, круговращения, итерации, цикличности, и глубинную, повторяющуюся основу частей во имя целостности самой философии, то почему бы не признать ее учением.
Опорой вышеприведенного методологического подхода являются, как уже отмечалось выше, работы В.В.Гиппиуса, Ю.М.Лотмана, М.М.Бахтина, А.Е.Ляпиной, И.В.Карташовой, Ю.В.Манна, В.Н.Топорова и др. Интератизм как учение позволяет достаточно гибко, оперативно, многоаспектно выделить в каждом конкретном материале доминанту исследования – своеобразие явления круговращения с заданной целью не только расширить проблемное поле философии, но и углубить восприятие его идей и принципов, обеспечивающих ее целостность. Ведь такое учение предполагает: 1) «Анализ-синтез» всех традиционных звеньев композиции в их последовательном движении; 2) Полнота рассмотрения нарративных ситуаций и способов их развертывания также определяется степенью интенсивности проявления той самой цикличности в целостном организме философского произведения; 3) Процесс осознания круговращения проходит через несколько этапов эволюции как мифологического, литературного, но и философского сознания; 4) Процесс становления рецептивного цикла – это процесс осознания той общности философских произведений, той системы межтекстовых связей и циклообразующих элементов, которые заложены в цикл его автором.
Согласно принципов итератизма, определенное повторение одних и тех же элементов на разных уровнях оказывается теснейшим образом связан с идейным содержанием произведения. Наряду с констатацией взаимосвязей между различными проявлениями цикла и цикличности, мы должны обратить внимание и на специфику реализации этих принципов в зависимости от своих творческих задач. Циклическая модель мироздания связана со сложным комплексом религиозных представлений, органично дополняя авторские размышления о соотношении Добра и Зла. Дифференцированность авторских задач может обусловить разные типы цикличности и в рамках одного произведения. Специфика цикла и цикличности может быть соотнесена не только с комплексом идейно-нравственных представлений, но и с жанровой природой нашего произведения.
Итак, понятие «итератизм» имеет две особенности: 1) Оно является лишь учением (о круге, круговращении), а потому нет у него не только своего собственного категориального и понятийного аппарата, но даже минимума общезначимой терминологической базы; 2) Оно является авторским, а потому включает лишь представления, которые выработаны автором или разделяются им без каких-либо критических оценок ошибочных с точки зрения авторской концепции подходов и принципов. Поэтому, автор не претендует на безупречность своего понимания цели, значимости и перспективы учения, но надеется, что при внимательном чтении предлагаемые трактовки образуют, во всяком случае, исходную базу для продуктивного обсуждения проблемы соотношения онтологии, гносеологии, антропологии, мировоззрения. Мы не абсолютизируем свое учение и не пропагандируем его, объявляя истинным или приемлемым, так как могут: 1) Сказать, что теоретические аспекты итератизма либо «слишком абстрактно», либо «голословны»; 2) Упрекать в том, что ничего не сказано о предмете, объекте, методологии, сути; 3) Сказать, что нужно было бы хотя бы уточнить терминологию, базовые понятия и контексты, а затем продвинутся по пути от чрезмерно абстрактного к конкретному, шаг за шагом наполняя предметное поле и контент учения.
Многолетняя работа над категорией «Круг» позволила нам ознакомится с рядом идей, концепций и теорий в области онтологии, гносеологии, антропофилософии, мировоззрения, уточнить понимание ряда новых философских понятий и феноменов, более системно представить соотношения между ними. В этом процессе выявились множество проблем, которых следовало бы разрешить, понять, осмыслить. И вот результаты обобщения представляются на суд читателей. Между тем, это, возможно, лишь контуры нового учения, а не само учение. Говоря об итератизме важно отметить главное отношение, трактуемое как существование во множестве соотношений, инвариантного соотношения, позволяющее говорить о человеке, человеческой цивилизации «вообще», несмотря на их различия в качестве биологического или социального существа, Это делается нами во избежание споров о том, что же собой представляет данное учение «на самом деле», необходимо четко осознавать то соотношение, в котором рассматривается предмет для решения определенной задачи – не смешивать теорию с учением, так как учение – это лишь система взглядов, инструмент для поиска новых истин и действий человека.
Глава IV
Итератизм Абсолютного Зла: гносеонтологический круг. По мотивам романов «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла»
Как говорится «вначале было слово». Эзотерико-философский роман-аллегория «Тегерек» был опубликован в 2013 г., а художественно-философский роман «Проклятье Круга Зла» – в 2015 г. Следует отметить, что эти сочинения легли в основу создания идейно взаимосвязнных соответствующих мифов: 1) Миф «Тегерек»; 2) Неомиф «Проклятье Круга Зла». Следует подчеркнуть, что они были сконструированы искусственно по мотивам вышеприведенных одноименных сочинений, написанных в стиле литературной философии, но свидетельствующих о двукхцикловом гносеонтологическом круге. О целях конструирования мифа и неомифа сказано в главе 2. На наш взгляд, была необходимость более широкого и более глубокого обобщения опыта научной верификации вышеприведенного мифа и неомифа, ибо, частичные сведения, заложенные в вышеуказанные книги в целом не отражали идейное содержание философии итератизма Зла. Между тем, необходимо было выстроить ее целостную концепцию. В 2023 г. были опубликованы два капитальных труда: 1) «Тегерек: мифы, тайны, тени»; 2) «Тегерек: сущность теней». Данные монографии позволили непредвзято и более широко взглянуть на контуры итератизма Зла, а также открыли совершенно новые ее грани.
Как подчеркивалось в главах 1 и 2, круговращение представляет собой одну из широко распространенных философских категорий, которая проникла практически во все сферы – природы, общества, человека. В основе данного понятия лежит представление о том, что природа и общество, а также отдельные их сферы движутся по кругу с постоянным возвращением вспять, к исходному состоянию, и последующим новым круговоротом. Тяготение к круговращению характерно для различных уровней организации художественного, научного, философского пространства многих исследователей. В их произведениях круговращение предстает как своеобразный процесс перехода от статического состояния к динамическому и далее (по достижении цели) снова к статическому, но на более высоком уровне. Подобная сущность природы, общества и человека заложена как философская основа вышеприведенных сочинений, в которых уже в названии «Тегерек», «Проклятье Круга Зла» подчеркивается тот самый феномен круговращения.
Мифологический образ горы «Тегерек» и метафорический образ «Круга Зла», по сути, являясь олицетворениями вечного круговращения, как нельзя лучше воплощает собой динамическое начало. Данные образы позволяют говорить об особом мифологическом значении феномена Зла, который является проявлением универсальной категории круговращения. На мифопоэтическом уровне данный мотив восходит к «основному мифу» мировой мифологии о борьбе Добра и Зла. В этом аспекте, по сути, «Миф о Тегерек» и неомиф «Проклятье Круга Зла» являются этиологическими и объясняют природу, сущность, фабрику Абсолютного Зла, каковым являются: 1) В архаике ажыдар (в пер. с кырг. – дракон); 2) В наше время – радиация. «Смерть» ажыдара и радиации нами не воспринимается как абсолютное и вечное небытие, пустота, а как временное состояние, как некий цикл в круговращении, как своеобразная категория возобновляемости, повторяемости, вечности. Так, в «Мифе о Тегерек» ажыдара убивают и закапывают в каменный саркофаг. Однако, со временем и не без помощи воинов Зла (Широз-бахши), ажыдар, как воплощение Абсолютного Зла вырывается из этого плена и все повторяется вновь и вновь. Между тем, это и есть мотив круговращения Зла. Одним из структурообразующих элементов мифа является создание целостной системы мотивов и образов: 1) Охранная тропа в обход горы Тегерек с чтением молитв-заклятье против ажыдара; 2) Противопоставление «кара» (в пер. с кырг. – темное) и «ак» (в пер. с кырг. – светлое) как в быту, так и в сакральных поступках и поведениях людей и пр. Следует заметить, что одним из значительных мотивов в цикле выступает мотив образования и воспитания, как способов предотвращения Зла в самом себе. Образы и мотивы круговращения Зла в мифе и неомифе повторяются в ряде других либо трансформируются и соприкасаются с близкими мотивами. Подобная повторяемость, возвращение к другим образам и явлениям вновь может рассматриваться в качестве одного из вариантов феномена круговращения. В целом, идея круговращения является основополагающим в нашем мифе и неомифе.
§1. Конструирование мифа и неомифа о Тегерек. Само по себе конструирование мифа «Тешерек» с последующей его деконструкии и конструирование на этой основе неомифа «Проклатье Круга Зла» представляет собой трехцикловой гносеонтологический круг. Нужно отметить, что исследование мифологического дискурса, как целостной единицы художественного моделирования является одним из актуальных направлений современной науки, литературы, культуры. Многие авторы, в числе которых Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008), Ы.М.Мукасов (2018) и др. подчеркивают, что на рубеже XX – XXI вв. отмечается заметное повышение интереса к мифу, к специфике мифологического мировосприятия. Т.И.Борко (2006), О.И.Генисаретский (2007), Ж.-Ж. Вюнанбурже (2010) и др., подчеркивают, что именно обращение людей к мифу и мифологии в современную кризисную эпоху способствует переосмыслению мира, созданию новой ее модели. Мы придерживались именно такой концепции при конструировании мифа о Тегерек, в котором речь идет о проблемах переосмысления гуманитарной ответственности в современной эпохе в сравнении с архаичными временами. Уместно привести высказывания Гегеля Ф. (1770—1931) по созданию новой мифологии – «мифологию разума»: «В мире есть своя логика, разрешающая противоположные высказывания. Формальная логика с запретом противоречия – это антитеза мифа. Миф – это форма мысли человека» [Гегель Ф., 1994]. Исследователи, в числе которых Ю.М.Дуплинская (2004), Г.В.Зубко (2008) и др. справедливо считают, что миф – есть один из чрезвычайно сложных реальностей культуры, а потому его нужно исследовать и интерпретировать на научно-мировоззренческой и социокультурной основе и в различных аспектах. Задачей такого подхода, как писал К.Г.Юнг (1875—1961), является открытие «мировой души» – таинственное пространство коллективного бессознательного, включающие много-много других «я». Он утверждал, что, в целом из таких информационных пространств, как «Я» + «душа» + «миф», складывается уникальный, индивидуальный мир Человека [Юнг К. Г., 1994]. На наш взгляд, если сосредоточиться на этом принципе, то при конструировании нового мифа необходимо спрогнозировать в нем процесс разглядения более глубинных проблем человечества, в том числе в условиях современности.
Итак, прежде всего поясним, что миф о Тегерек является искусственно сконструированным, то есть являет собой чистый вымысел, причем, составленный лишь на основании отдельных ландшафтных и географических названий реальной местности в Ляйлякском районе Баткенской области Кыргызстана, а также скудных преданий одной из местных племен (кара-кулы) о мудром старце рода Ак-киши-олуя. Сама географическая реальность местности, названной нами, как «край каньонов и пещер» в какой-то мере, причем, в самом начале отвечает мифическому духу романа «Тегерек». В нем говорится о том, что в пути в тот самый край, дорога, как бы проваливается в каньон и, вместо только-что зримого и необъятного простора Талпак (в пер. с кырг. – плоскость), вдруг и сразу взору представляется уже мрачные высоченные каменные стены вкруговую. У любого человека создается некое ощущение попадания в пещеру, зловеще зияющую своей темной пустотой. Один из персонажей романа – Сагынбек-ава говорит, что «тут уже другой мир, тут сама древность, тут таинство темных пещер и глубоких каньонов». Разумеется, любой предвзятый читатель, в том числе из числа местных жителей или старожилов этого края, любой специалист, будь он краевед, историк, этнограф, мифолог, географ, литератор, философ, не отыщет каких-либо сведений о существовании не только мифа о Тегерек, но и какого-либо подобного сказания или легенды. Говоря напрямую, утверждаем о том, что этот миф исключительно создан нами. О мотивах и реальных причинах скажем ниже, а пока, как говорится в сказках и легендах «было так или не было – кроме бога, свидетелей не было». Примерно такого мнения придерживаемся и мы, что выражено устами одного из героев романа Суванкул-ава: «…Есть такое предание и можно услышать от людей, что из всех магических и святых мест юга Средней Азии, глубже всего запрятана гора Тегерек. Причем не только от людских глаз…», – говорит он, – «секреты, скрытые в этой горе упрятаны и в генной памяти и сердцах жителей его окрестностей». Так начинается повествование мифа о Тегерек.
В самом деле, в сконструированном мифе мифологическая реальность репрезентируется, как действительный мир с единственной целью сотворить новый миф, наполненный новым, сверхактуальным значением эсхатологического порядка. В этом отношении, этот миф, как, впрочем, любой современный миф – это дискурс, который является целостной коммуникативной единицей, адресованной читателю и направленной на адекватную интерпретацию реципиентом в ракурсе реальных вызовов и угроз современности. В подобных ситуациях стоит задуматься о том, что же имел в виду Сагынбек-ава, когда сказал Руслану, впервые увидевшего Тегерек: – «…Тайна горы запрятана глубоко в земле под ее основанием…». Мало кому, в том числе и Руслану, было невдомек, что гора оказывается рукотворной, впрочем, как каменный саркофаг Чернобыля. – «Было так или не было – кроме его величества Природы, свидетелей нет», – говорит рассказчик. Между тем, пересказ любого мифа, легенды или преданий требует знания предшествующего контекста, а также обязательно предполагает хотя бы относительную интертекстуальную компетентность реципиента. В этой связи, и возникает необходимость изложения сведений о генезисе мифа. Так вот, в целом, миф о Тегерек «как будто бы» отражает сакральную историю небольшого племени кара-кулов, повествуя о событиях, «как будто бы» произошедших в достопамятные времена в далеком «краю каньонов и пещер», где проживало и проживает, по сей день, потомки этого маленького кыргызского племени. – «…Прошли века с тех пор, как свидетели и строители этой горы-саркофага, покинули бренный мир, а большинство же смертных, даже в этих окрестностях, уже давно забыли о мифической природе и сути горы…», – рассказывает Суванкул-ава.
Находим нужным сделать условное допущение о том, что такой миф, скажем, существовал. В этом случае, потребуется и следующее допущение о том, каковы были истоки мифа и в чем заключалась, скажем социальная его роль? Вне зависимости от ответа, мы выражаем свою солидарность с образными выражениями принципов мифа А.Ф.Лосева (1994): – «Миф не аргументирует и не убеждает; миф является одновременно резонатором и толкователем; миф растет снизу, формируясь из коллективных фобий, комплексов, надежд и фантазий». А когда миф умирает? – задается вопросом А.Ф.Лосев (1893—1988) и сам же отвечает: – «Миф умирает, когда разрушается социальный запрос на него: когда распадается тот социальный порядок, что сделал его возможным; когда исчезают те практики, которые он трактовал и поддерживал. И наоборот – он жив, пока реальность его терпит». Таким образом, степень веса мифа в наличном социуме обратно пропорциональна уровню рефлексивности коллективного сознания.
Следует признать, что в вышеуказанном случае, возникает другой вопрос: в чем заключается сущность мифологического сознания? Наверное, прежде всего, в образно-метафорической маркировке реальности на базе сходных жизненных практик, считают ряд исследователей, в числе которых А.Б.Венгеров, М.С.Галина, А.В.Гулыга, П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая и др. Элиада М. (1907—1986) утверждает: «Миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». В этом аспекте, миф о Тегерек рассказывает, каким образом, вымысел создателя мифа, отражая будто бы некоторую реальность, благодаря подвигам тех или иных ее вымышленных героев, достигла своего воплощения и осуществления заложенных в нем смысла и идей. В романе «Тегерек» на скепсис студента Руслана в отношении реальности мифа, один из старожилов местности Суванкул-ава говорит: – «…Пусть миф останется мифом. У нас свое представление о движении Природы. Мы – люди маленькие, живем своими маленькими заботами, у нас свои представления о Добре и Зле. Так что будьте снисходительны к нам, к нашей истории и преданиям…». Надо полагать, что это есть обращение не только к Руслану, но и ко всем людям.
Как известно, любой миф – это, некий рассказ о некоем «творении», когда сообщается о том, каким образом и что-либо произошло. То есть в мифе, мы стоим у истоков существования этого «чего-то», – подчеркивают многие мифологи [цит. – А. Чернышов, 1992]. И все же, в какой-то мере соглашаясь с такими мнениями, считаем, что с мифом о Тегерек было несколько иначе. Вновь подчеркиваем тот факт, что даже отдаленных отголосков этого мифа в виде сказаний ли, преданий ли не было и не существовало в принципе. То есть не было ни одной истории о Тегерек, кроме, как названия горы, выделяющейся из окружающих гор своей необычной круглой формой. Не было ни одной истории, хотя бы отдаленно связанной с ажыдаром, пещерами, горами, кроме как ряда географических названий – гора «Тегерек», лощина «ажыдар-сай», род «кара-кулы», селение «Кара-даван», шейх «Кара-молдо», река «Ак-суу», кишлак «Чоюнчу», пещеры «Кара-камар», «Астын-устун», «Келин-басты» и пр. Нам остается лишь допустить, что, если мифы и предания и были, то, к сожалению, не сохранились ни в памяти поколений, ни в источниках письменной или устной речи местного народа. В таком случае, безусловно значим вопрос: что было важно для создания нового мифа? Как нам кажется, важно было из ландшафтных характеристик и особенностей, отдельных топонимических названий, каких-то обрывков фраз и слов, «осколков» местных историй, событий и преданий, образов предков, а также неких, довольно туманных намеков на скрытые смыслы составить такой миф. Между тем, такой мифологический нарратив в виде романа создавался нами лишь ради раскрутки интересной и актуальной проблемы отражения Добра и Зла в сознании архаичных людей. И действительно, как описано в романе, посреди горных окружений, возвышалась огромная гора, сферической формы, напоминающая огромную юрту. Внешне гора действительно выглядела как рукотворное грандиозное сооружение, схожая с египетскими пирамидами и саркофагом Чернобыльской АЭС. – «…Это не просто гора, а гора- саркофаг, такой же, как пирамида Хеопса, объект «Укрытие» Чернобыля…», – рассказывает Сагынбек-ава.