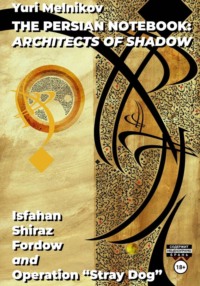Полная версия
Код(а)
В тот миг всё вокруг исчезло: не было ни толпы, ни криков, ни плакатов. Только она. Он хотел подойти, сказать что-то, но не смог. Его ноги приросли к земле, а голос утонул в гуле толпы. И он не смог отвести взгляд. И он не смог уйти.
А потом всё завертелось:
– Вперёд! – кричали хунвейбины.
– Долой старое мышление!
– Да здравствует председатель Мао!
Они сжигали костюмы и декорации пекинской оперы, разбирали на кирпичи Великую стену, строили свинарники, ездили в агитационных поездах, протестовали в Ухане и Гуйлине. Но всё это было потом, и всё это было уже неважно. Потому что именно тогда, на площади, он понял: их жизни разошлись навсегда, и никакие слова, никакие поступки не смогут этого изменить. Но тогда, на площади у университета, он встретил её в последний раз.
И именно тогда, в тот день, когда всё вокруг рушилось, а он стоял в толпе, не в силах сделать ни шагу, не сказать ни слова, – именно тогда в нём родились новые строки. Строки стихотворения, которые он продолжит писать в ту ночь, а закончит лишь много лет спустя, уже другим человеком, уже не мальчиком, – учителем, в той же школе, в том же классе, где впервые услышал её голос:
но ведь и ты уже не та
и потемнела та рука
что нежно гладила меня
когда на близких несмотря
ты подарила мне себя
но знаю я настанет день
когда меня заменит тень
когда укроют всё снега
и только луч издалека
нежданно вдруг найдет тебя
и снова ты пойдешь туда
и снова ты найдешь меня
Он не знал тогда, что эти слова станут его единственной памятью о ней, что всё остальное будет стёрто временем, страхом, чужими призраками. Он не знал, что впереди – только потери, только серые лица, только долгие годы, в которых не будет ни прощения, ни возвращения.
Но именно тогда, в тот день, среди криков и толпы, он впервые почувствовал: всё уже случилось, всё уже написано, и изменить уже ничего нельзя. Новый спектакль не начнётся – роли сыграны, костюмы сгорели, сцена пуста. И только в памяти, как эхо, ещё долго будет звучать её имя.
Мэй Линь.
Часть вторая Глава перваяПекин стал другим. Город, который когда-то казался Мэй Линь бесконечно большим и шумным, теперь сжался до размеров одной комнаты, одного окна, одного взгляда в пустоту. Она больше не ходила в школу – её уволили без объяснений, просто перестали пускать за ворота. На доске объявлений, где раньше висели расписания и стихи, теперь были только списки врагов народа и новые лозунги.
Родителей выгнали из университета. Их книги, рукописи, фотографии выбросили во двор, как мусор. Отец молчал, мать плакала по ночам, уткнувшись в свой старый платок, а Мэй Линь стала единственной, кто приносил в дом хоть какие-то деньги. Она по-прежнему работала переводчицей на заводе, где всё стало для неё обыденным: язык, запахи, люди, даже воздух. Но иногда ей казалось, что она живёт не свою жизнь, а чью-то чужую, случайно надетую, как старое пальто в раздевалке театра.
Вечерами она сидела у окна, смотрела на улицу, где редкие прохожие спешили домой, и думала о Чэнь Ване. Она не знала, что с ним стало. После разгрома хунвейбинов его имя исчезло из разговоров, как будто его никогда не было. Иногда ей казалось, что она придумала его – мальчика с настороженным взглядом, который рисовал её на полях тетради и не умел скрывать своих чувств. Она вспоминала его вопросы, его смущение, его молчание. Вспоминала – и не знала, зачем.
Их дом, казалось, был пропитан бедностью и страхом. Мать всё чаще говорила шёпотом, отец подолгу не выходил из комнаты. На стене висел портрет Кормчего, и его глаза следили за каждым движением, за каждым словом. Мэй научилась говорить только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. Она научилась быть тенью.
В эти дни начался конфликт на границе. По радио говорили о врагах, о предателях, о том, что СССР – больше не друг, а враг, что во всём виноваты советские ревизионисты. В новостях для советских специалистов остров называли Даманским, а для китайцев – Чжэньбао дао. Даже в этом – разлом, трещина, невозможность договориться о самом названии земли, где теперь стреляют.
Мэй Линь слушала эти новости и не могла понять: как так, – страна, в которой выросли её родители, в которой она прожила уже несколько лет, и страна, где она родилась, теперь враги? Где её дом? Где её родина? Она чувствовала себя расколотой надвое, как дерево, в которое ударила молния.
Сергей Морозов слушал радио и ждал приказа. Для него это был Даманский – маленький клочок земли, который вдруг стал границей между прошлым и будущим. Для неё – Чжэньбао дао, остров, имя которого теперь звучало как-то иначе – будто сама память разделилась на две половинки.
Вечерами, за закрытой дверью, они говорили о погоде, о работе, и даже о том, о чём нельзя было сказать вслух. Иногда он смотрел на неё и думал: как странно устроена жизнь – иногда ближе всего оказывается тот, с кем нельзя быть рядом.
Его семья – жена, дети – остались далеко, в России, на Урале, в Свердловске. Их лица всё чаще всплывали в памяти как старые фотографии: чуть выцветшие, с уголками, загнутыми временем. Он знал, что должен скучать по ним, но всё чаще ловил себя на мысли: когда придёт приказ уезжать, он будет скучать, сильно скучать. Но по-другому. Он будет скучать по этой стране, по этим разговорам с Линь, по её голосу, который стал для него единственным настоящим в этом до сих пор чуждом мире. И даже по надоевшему заводу, где всё было не так, как дома. Всё это станет прошлым, и, возможно, самым настоящим в его жизни.
Однажды вечером, когда за окнами завода уже сгущались сумерки, они сидели в его кабинете. Морозов молча курил, глядя в мутное стекло, а Мэй Линь перебирала бумаги, делая вид, что читает.
– Ты слышала? – наконец сказал он, не оборачиваясь. – На Даманском опять стреляли. Наших 8 человек убили.
Она медленно подняла голову, не сразу поняв, о чём он.
– На Чжэньбао дао, – тихо поправила она. – Это остров Чжэньбао.
Он усмехнулся, но в этом смехе не было ни радости, ни злости – только усталость.
– Для нас он всегда был Даманским.
– А для нас – всегда Чжэньбао дао, – ответила она, и в голосе её прозвучала какая-то новая, не знакомая ему твёрдость.
Они замолчали. За стеной гудел завод, равнодушный к их разговорам, к их страхам, к их разным словам.
– Странно, – сказал Морозов, – как будто даже названия теперь воюют друг с другом.
– Не только названия, – прошептала Мэй. – Всё воюет. Даже память.
Он посмотрел на неё – долго, внимательно, как будто видел впервые.
– Ты ведь не веришь, что всё это закончится?
Она покачала головой.
– Нет. Я думаю, это только начало.
Он хотел что-то сказать, но не нашёл слов. Она тоже молчала. В этот вечер между ними было больше тишины, чем когда-либо прежде.
Когда Мэй Линь возвращалась домой, улицы казались ей ещё более пустыми, чем обычно. В подъезде пахло сыростью и чужими жизнями. Мать, как всегда, сидела у окна, отец не выходил из комнаты. Она тихо прошла на кухню, налила себе воды, присела на табурет.
Я не знаю, где мой дом. Я не знаю, кто я. Я – между двумя странами, между двумя языками, между Даманским и Чжэньбао дао, между прошлым и будущим. Я – как вода, что течёт по трещинам, не зная, где остановиться. Я – как письмо, которое не доходит до адресата. Я – как призрак, которого никто не замечает… Иногда мне кажется, что всё это – сон. Что я проснусь, и всё будет как раньше: школа, книги, детский смех, весенний дождь за окном. Но я не просыпаюсь. Я только слушаю, как капает вода в раковине, как стучат поезда за окном, как кто-то шепчет в темноте: «Не говори. Не спрашивай. Забудь».
Тем временем, ночь за окном сгустилась до такой степени, что уже невозможно было различить, где кончается одна страна и начинается другая.
Глава втораяВ тот вечер Пекин был особенно серым. Воздух стоял неподвижно, как будто город затаил дыхание, ожидая чего-то, что уже не могло не случиться.
Морозов вёз Мэй Линь домой – в последний раз. Машина ехала медленно по пустой дороге, где не было ни людей, ни звуков, только редкие фонари, освещавшие лужи и обрывки старых газет.
В салоне пахло табаком и чем-то ещё – чем-то, что всегда оставалось между ними, неуловимым, как память о чужой стране. Они почти не разговаривали. Всё, что можно было сказать, уже было сказано. Всё, что нельзя – осталось внутри.
– Ты могла бы уехать со мной, – тихо сказал Морозов, не глядя на неё. – В Союзе тебе было бы легче. Я помог бы. Всё равно меня выдворяют. Персона нон грата. Даже звучит не по-человечески.
– Я не могу, – ответила она. – У меня здесь родители. Я не могу их бросить.
Он кивнул, не споря. Он знал, что это правда. И знал, что спорить бессмысленно.
Они ехали дальше, и город за окном казался чужим, как будто они оба уже были не здесь, а где-то в другом времени, в другой жизни.
– Останови, пожалуйста, – вдруг сказала Мэй Линь, когда они проезжали мимо пустыря, где когда-то строили новый квартал, а теперь остались только бетонные плиты и ржавые арматуры. – Я дойду сама.
Морозов остановил машину. Она открыла дверь, вышла, не оборачиваясь. Он смотрел, как она идёт по пустырю, маленькая, хрупкая, почти прозрачная в свете фар. Потом она остановилась, и он понял: она ждёт, пока он уедет.
Он медленно тронулся с места, не оглядываясь, не зная, увидит ли её ещё когда-нибудь. В зеркале заднего вида её уже не было видно – только темнота и пустота.
Мэй Линь стояла посреди пустыря. Вокруг не было ни одного окна, ни одного человека, только чёрное небо, без единой звезды, и только редкие огоньки на горизонте. Она стояла, слушая, как уходит машина, как уходит всё, что было её жизнью.
Внутри было пусто. Ни страха, ни слёз, ни надежды. Только тишина, похожая на смерть.
И вдруг она закричала.
Крик вырвался из неё неожиданно – резкий, хриплый, чужой. Она кричала так, как никогда не кричала в жизни. Кричала в чёрное небо, в бетон, в пустоту, в саму себя. Кричала за все годы, за все слова, за всё, что не сказала, за всё, что не сделала, за всё, что не смогла спасти.
Крик был долгим, отчаянным, почти звериным. Он не был похож на голос человека – скорее на голос того, кто больше не может быть человеком.
А потом она замолчала.
Тишина вернулась, ещё более глухая, чем прежде. Мэй Линь стояла, тяжело дыша, и смотрела в чёрное, безмолвное небо, где по-прежнему не было ни одной звезды.
И только где-то далеко, в глубине города, по-прежнему капала вода – будто время всё ещё не решило, куда ему течь дальше.
Глава третьяПоезд шёл на запад, сквозь бескрайнюю Сибирь, где лес сменялся лесом, и казалось – здесь больше ничего нет и не будет.
Морозов стоял у окна, курил, смотрел, в надежде, что увидит хоть какой-нибудь признак человеческой жизни. В купе пахло табаком, прокисшей икрой, железом и чем-то ещё – тоской, что ли, или просто усталостью.
Он думал о Мэй Линь. О том, как она стояла на пустыре, не обернулась, не попрощалась, только сказала: «Я дойду сама». Увидит ли он её ещё когда-нибудь? Вряд ли. Персона нон грата – вот так теперь называлось его положение. Слово-то какое, подумал он, будто клеймо на лбу. Персона нон грата. Даже звучит не по-русски. Выдворенец.
В соседнем купе кто-то напевал дурацкую частушку:
Остров Даманский – Чжэньбао-дао,
Мир, изранен войной и Мао.
Остров Даманский – теперь Чжэньбао,
Товарищ Мао там пьет какао.
Он затушил сигарету, посмотрел на свои руки – чужие, как будто не его. Вспомнил, как Линь смотрела на него в последний раз – спокойно, почти безжизненно. Как будто внутри у неё уже всё выгорело.
И вдруг – на фоне сибирских сумерек, – память выхватила совсем другой, почти забытый эпизод.
Пекин. Лето. Жара, от которой мутнеет воздух. Он впервые увидел её в кабинете директора – молодая, с прямой спиной, в простом тёмном платье, с тонкими, почти прозрачными руками. Она улыбнулась ему – не ему, а всем сразу, но он почему-то решил, что только ему.
Тогда всё казалось простым: документы, инструкции, чертежи, – и вдруг этот голос, мягкий, с лёгким акцентом, и взгляд, в котором было что-то неуловимо родное.
Он вспомнил, как она поправила прядь волос, как смотрела на него, когда переводила очередную фразу, как будто между строк было что-то ещё, что-то, что нельзя было сказать вслух.
Воспоминание было коротким, как вспышка, но от него стало ещё холоднее. Всё, что было тогда – живое, настоящее, – теперь осталось где-то там, за тысячами километров, за Амуром, за границей, которую уже не пересечь.
В купе было душно. Он вышел в коридор, прошёл по вагону, где кто-то уже храпел, кто-то тихо спорил о политике, упоминая почти шепотом Брежнева и Прагу, а кто-то пил водку из алюминиевых кружек.
– Мужики, можно к вам? – спросил он, и никто не возразил.
– За что пьём? – спросил кто-то.
– За возвращение, – сказал Морозов. – За Родину. За то, что меня выдворили из Китая.
– Персона нон грата, – добавил он, и все засмеялись, не понимая, что в этом смешного.
Он налил себе, выпил, закусил хлебом.
– А у меня жена – Соколова до замужества была, – вдруг сказал он, – но Морозова для Урала лучше подходит.
– Соколова? – переспросил кто-то. – Хорошая фамилия.
– Хорошая, – согласился Морозов. – Но Морозова – крепче. Для зимы, для Сибири, для всего этого.
Он выпил, посмотрел в окно, где отражался только он сам, и добавил, будто между делом:
– А ещё мне тут звание присвоили. Полковник. Вот так. Теперь, может, снова в командировку отправят. Куда-нибудь, где тепло. В Колумбию, например.
– В Колумбию? – засмеялись соседи. – Вот это да!
– А что, – сказал Морозов, – там, говорят, какао все пьют. И кофе хороший. Полковником, наверное, там будет легче.
Они пили ещё, говорили о жизни, о женах, о детях, о том, как всё меняется и ничего не меняется. Морозов слушал, кивал, смотрел в окно, где отражался только он сам – усталый, чужой, с новым званием и старой тоской.
А поезд шёл всё дальше и дальше, а ночь за окном была такой же бескрайней, как и дорога, по которой он возвращался домой.
Иногда ему казалось, что он уже не человек, а просто пассажир между станциями, между странами, между прошлым и будущим. Всё, что было настоящим, осталось там, где теперь никто не ждёт звонка от полковника.
И только где-то в темноте, за стеклом, иногда мелькала река – чёрная, как память, и такая же холодная.
Глава четвертаяМного лет спустя, когда новые кварталы Пекина выросли на месте старых пустырей, Сергей Морозов вернулся в этот город уже с дипломатическим паспортом, с сединой на висках и усталостью в глазах, которую не могли скрыть ни форма, ни улыбка.
Он возвращался не за орденами и не за воспоминаниями – он возвращался за тем, что было потеряно, за тем, что не имело имени, но не отпускало его ни в Свердловске, ни в Варшаве, ни в долгих снах, где всё ещё пахло жасмином и пылью.
Пекин встретил его иначе. Город был другим: улицы стали шире, машины – громче, а небо – ниже. Старые дома исчезли, как исчезают сны, когда просыпаешься слишком рано. На месте завода, где когда-то пахло железом и машинным маслом, теперь стоял торговый центр с зеркальными витринами. Никто не помнил, что здесь когда-то строили грузовики для армии, никто не помнил ни его, ни её.
Он ходил по этим улицам, как по лабиринту, в котором все выходы давно замурованы. Он спрашивал в посольстве, в архиве, в старой библиотеке, где когда-то пахло пылью и чужими жизнями. Он искал её имя в списках, в телефонных книгах, в пожелтевших документах, но находил только пустые строки, только чужие лица, только равнодушие.
– Мэй Линь? – переспросила молодая сотрудница в библиотеке, не поднимая глаз от компьютера. – Нет, такой у нас не числится. Может быть, вы ошиблись с именем?
Он пытался найти хоть кого-то, кто помнил бы её – учительницу русского языка, переводчицу, женщину с тонкими руками и тихим голосом. Но все, кто мог бы помнить, уже уехали, умерли, исчезли, растворились в потоке времени, как капли дождя на асфальте.
Иногда ему казалось, что он ищет не человека, а тень, не имя, а эхо. Он заходил в старую школу, где когда-то пахло мелом и детскими голосами, и смотрел на пустые классы, где теперь висели новые портреты, новые лозунги, новые правила. Он стоял у окна, смотрел на двор, где когда-то цвели сливы, догадываясь: всё, что было, ушло. Всё, что было, не вернётся.
Вечерами он сидел в гостиничном номере, пил чай, смотрел на городские огни и думал, что, может быть, всё это ему только приснилось. Может быть, не было никакой Мэй Линь, не было их вечерних разговоров, не было пустыря. Может быть, всё это – просто старая фотография, которую кто-то забыл в чужом чемодане.
В один из вечеров, когда город уже начал светиться неоном, Морозов всё-таки нашёл одного из старых знакомых – Лао Чжана, бывшего инженера с завода, где когда-то они работали. Чжан постарел, стал сутулым, говорил медленно, с долгими паузами, будто каждое слово нужно было вытащить из глубины памяти.
– Мэй Линь? – переспросил он, задумчиво глядя в чашку чая. – Да, помню такую. Тихая была, всегда с книгой. После того, как вас выслали, её тоже больше не видели. Говорили, что родители её куда-то увезли, а потом… – он пожал плечами. – Тогда многих увозили. Многое забывается, товарищ полковник. Всё меняется.
Они сидели в маленькой чайной, где пахло жасмином и старым деревом. За окном шёл дождь, и капли стекали по мутному стеклу, как слёзы по чужому лицу.
– Всё меняется, – повторил Морозов. – Только чай остаётся прежним.
Он кивнул, не зная, что ещё сказать. Он смотрел на руки Лао Чжана – такие же старые, как и его собственные, – и думал, что, может быть, всё это действительно было давно, в другой жизни, в другой стране, в другом городе.
В ту ночь ему приснился сон.
Он снова был молодым, снова стоял у входа в какую-то старую школу, где пахло мелом и дождём. В коридоре звучал её голос – тихий, как шёпот, и он не мог разобрать ни слова. Он шёл по пустым коридорам, искал её, звал по имени, но вместо ответа слышал только шорох листьев, падающих где-то в темноте. Он открыл дверь в класс – и увидел, что за партами сидят только тени, а на доске кто-то написал чьё-то имя, но прочитать его было невозможно – буквы были размыты дождём.
Он проснулся на рассвете, когда город ещё спал, и долго смотрел в потолок, пытаясь вспомнить, что было сном, а что – жизнью.
Всё, что было, ушло. Всё, что было, не вернётся.
И только дождь за окном продолжал моросить.
Часть третьяГлава перваяВ тот год весна пришла в Запретный город рано. Дворцы были наполнены запахом влажной земли и старых лаков, а в прудах отражались выцветшие небеса.
Император, чьё имя давно забыто, но чьи указы всё ещё хранятся в шелковых свитках, принимал новую наложницу.
Её привели в зал, где стены были расписаны журавлями и соснами, а полы скользили под ногами, как вода. Она шла медленно, не поднимая глаз, в платье из тончайшего корейского шёлка, цвета молодой листвы. На её запястьях звенели браслеты, и этот звук был единственным, что нарушало тишину.
Слуги и евнухи стояли вдоль стен, не двигаясь. В их взглядах не было ни любопытства, ни жалости. Всё происходящее было частью ритуала, который повторялся из века в век.
– Говорят, она из Корё, – шептались служанки в коридоре, пряча улыбки за рукавами. – У неё странное имя, не по-нашему.
– Ён Джу, – уточнил старший евнух, – по-китайски это значит Прекрасная Мелодия.
– Прекрасная Мелодия… – повторила молодая служанка, будто пробуя на вкус инородное слово. – Императору понравится.
– Императору нравится всё, что новое, – заметил другой евнух. – Но новое быстро становится старым.
Император сидел на троне из нефрита, массивном и холодном, с резными драконами, чьи глаза были инкрустированы яшмой. Его одежда была из бордового шёлка, расшитого золотыми облаками и фениксами. Его лицо было спокойным, почти безмятежным, но в глазах отражался интерес – не к женщине, а к тому, как она держит голову, как ступает, как не смотрит на него.
Она остановилась у подножия трона, поклонилась – медленно, с достоинством, как учили в далёком Кэсоне. В этом поклоне не было страха, или покорства, только выученная грация.
По знаку императора слуга поднёс поднос с чайником и двумя фарфоровыми чашками, расписанными синими облаками. Ён Джу, не поднимая глаз, изящно взяла чайник, и её тонкие пальцы, украшенные серебряными кольцами, двигались так плавно, что казалось – она не наливает чай, а играет на невидимом инструменте. Она подала чашку императору, склонившись чуть ниже, чем требовал этикет, и в этот момент придворные, наблюдавшие за церемонией, затаили дыхание.
В её движениях не было ни спешки, ни суеты – только безупречная точность и красота. Фарфоровая чашка в её руках казалась продолжением её самой: хрупкой, безупречной, почти нереальной. Она напоминала фарфоровую куклу, созданную не для жизни, а для созерцания.
Император взял чашку, не сводя с неё взгляда. В зале повисла тишина, в которой слышно было, как капает вода в саду за стеной.
– Она так красива, – прошептала одна из старших служанок, когда девушку увели в её новые покои. – Но красота – это только начало.
– Красота недолговечна, – пробурчал евнух.
В тот вечер, когда солнце садилось за крыши дворца, в покоях императрицы зажгли свечи. Имя новой наложницы обсуждали вполголоса, как обсуждают перемену ветра или новый сорт чая. Никто не знал, как сложится её судьба, но все понимали: в этом дворце всё решают не слова, а молчание.
Глава втораяВ летние месяцы, когда в саду за дворцом распускались лотосы, Ён Джу часто видели на каменных дорожках между прудами.
Она шла медленно, в платье из тончайшего шёлка, цвета утренней дымки, и каждый её шаг был выверен, как движение в танце. Иногда она останавливалась у старой сливы, осторожно касалась лепестков, будто проверяя, не сон ли это. Её пальцы были тонкими, почти прозрачными, и в их движении было что-то от фарфоровой куклы, которую боятся уронить.
Иногда она поправляла выбившуюся прядь волос – жестом, в котором не было ни кокетства, ни суеты, только привычная забота о порядке. Придворные замечали: когда она делала это, на её лице появлялась едва заметная улыбка, как у человека, который помнит что-то только ему известное.
Император приходил в сад по вечерам. Его сопровождали евнухи и стража, но, войдя в сад, он оставался один. Он смотрел, как Ён Джу наливает ему чай – так же безупречно, как в день их знакомства, – и как она, не поднимая глаз, подаёт чашку, склонившись чуть ниже, чем требует этикет. В её движениях не было ни страха, ни спешки, только точность и красота.
Император принимал чашку обеими руками, задерживал взгляд на её пальцах, на изгибе запястья, на тонкой линии шеи. Иногда он задерживал дыхание, будто боялся спугнуть хрупкое равновесие этого мгновения. Он не говорил лишних слов, но в его лице появлялась мягкость, которую редко замечали придворные. Иногда он медленно кивал, будто соглашаясь с чем-то только ему ведомым.
Слуги и служанки, стоявшие в тени, говорили между собой:
– Император стал тише, и стал чаще бывать в саду, – шептались в коридорах. – Он слушает, как она говорит, как будто в её голосе есть что-то, чего нет ни у кого.
– Он улыбается, когда она подаёт ему чай, – замечал старший евнух. – Это редкость.
– Говорят, он стал дольше задерживаться в саду, – добавляла служанка. – Иногда они просто молчат, и всё равно понятно, что он не хочет уходить.
– Она не задаёт лишних вопросов, – шептала одна из старших служанок. – Это мудро.
В саду, среди лотосов и камней, Ён Джу продолжала свой медленный танец. Она трогала цветы, поправляла волосы, смотрела на воду, в которой отражались облака и крыши дворца. Император наблюдал за ней, не вмешиваясь, как наблюдают за редкой птицей или за игрой света на поверхности воды. В его взгляде не было ни страсти, ни тревоги – только тихое восхищение и покой, который редко посещал его сердце.
Вечерами, когда солнце садилось за стены Запретного города, в саду становилось тихо. Только шелест шёлка, только лёгкий звон браслетов на её запястьях, только отражение луны в воде – и ни одного слова, которое могло бы изменить порядок вещей.
– Говорят, она ждёт ребёнка, – тем временем перешёптывались в коридорах. – Императрица не рада.
– Императрица никогда не бывает рада, – отвечал кто-то. – Но она умеет ждать.
В покоях императрицы это известие встретили молчанием. Императрица не меняла выражения лица, но в тот же вечер велела заменить всех служанок в покоях наложницы.