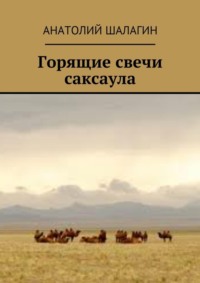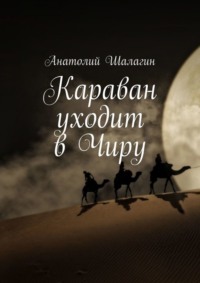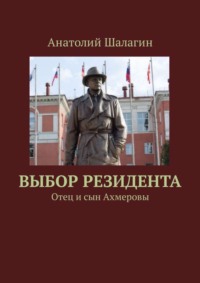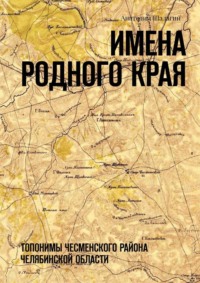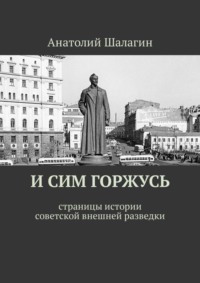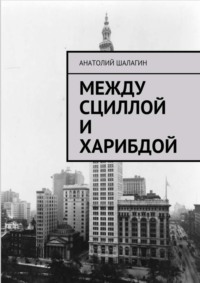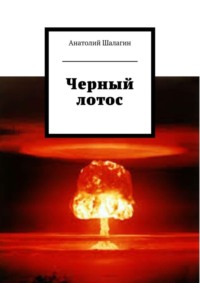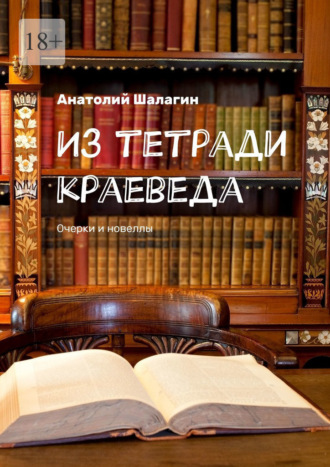
Полная версия
Из тетради краеведа. Очерки и новеллы
А его подросший сын Зюлькарнаин в этом же году был зачислен младшим писарем 3-го военного отдела войска, расположенного в г. Троицке. Уже через год юноша успешно выдерживает вступительные экзамены в Оренбургском юнкерском училище. Заметим, это испытание выдерживали далеко не все претенденты. Одаренный Дашкин за успехи в учебе вскоре производится в урядники. А ведь к тому времени ему еще не исполнилось и 18 лет! После окончания училища он зачисляется на службу в 5-ый Оренбургский казачий полк. И уже через год ему присваивается звание хорунжий. В то время 19-летний Зюлькарнаин Дашкин был самым молодым хорунжим ОКВ.
Уже в юности за Дашкиным закрепилась слава отменного стрелка и наездника. В документах той поры сохранилось немало свидетельств его многочисленных побед в различного рода скачках и стрельбах.
Дашкин, помимо прочего, обладал и такими качествами, как справедливость и требовательность, принципиальность и сострадание. Поэтому он пользовался неизменным уважением как среди офицеров, так и рядовых казаков. Черты его характера во многом способствовали избранию его атаманом одной из самых крупных станиц ОКВ – Ключевской. А было тогда атаману чуть больше 30 лет, что само по себе было довольно редким явлением, обычно возраст атаманов был значительно старше.
Но жизнь Дашкина «на гражданке» была недолгой. В 1895 году Дашкин вновь в войсках. На этот раз в Ташкенте в составе 5-го Оренбургского казачьего полка, где князь выполнял не только воинские обязанности, но и общественные, являясь членом полкового суда и суда офицерской чести. Заметим, не все удостаивались этого права. Именно в Ташкенте Дашкин получил первую свою государственную награду – серебряную медаль «В память царствования Императора Александра III». Ну и, конечно же, все призы за стрельбы и скачки были тоже его.
А наград в жизни князя было немало. Орден Святой Анны 3-ей степени, золотая Бухарская звезда 2-ой и 3 —ей степени, орден Святого Станислава 2-ой степени…
Вот содержимое лишь одного из наградных листов Зюлькарнаина Дашкина, датированного 1906-м годом: « Ввиду уз дружбы и согласия, связывающих Бухару с могущественным РОССИЙСКОИМПЕРАТОРСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ на благо и спокойствие народов, пожаловали Мы Командиру конвойной сотни 5-го Оренбургского казачьего полка Есаулу Дашкову Бухарский орден Золотой звезды третей степени, дабы он, украсив ею грудь свою, пребывал к Нам доброжелательным. Эмир Сеид Абдул Аханд 1323 год Месяц Радзан. г. Ташкент».
…А потом наступило 17 июля 1914 года. Именно в этот день в 7 часов вечера в Оренбурге узнали о начале мобилизации, начиналась вторая Отечественная война (именно так изначально в официальной и народной среде, именовалась первая мировая война – прим. авт.). А в судьбе и военной карьере Дашкина начался новый этап, полный побед и поражений. Однако, заметим, первых у князя было больше. О чем красноречиво свидетельствуют теперь уже боевые награды: Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Святой Анны 2 ст. с мечами, Святого Станислава 2 ст. с мечами и бантом, Святой Анны 3 ст. с мечами, Святого Станислава 3 ст. с мечами.
Конечно, победы достигаются не только благодаря мудрости командиров, но и мужеству рядовых воинов тоже. Возглавляемый Дашкиным 14-ый оренбургский казачий полк, в котором служила немало казаков-татар, отличался от многих других воинских соединений относительно низкими потерями и большим числом награждений рядового состава. Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями (эти награды особо ценились в казачьей среде – прим. авт.) были награждены Мухамедзян Масков, Газиз Мусин, Камалетдин Юсупов, старший урядник Насретдин Усманов, санитар Нурмухамед Дельмухаметов, казак Сагит Абдуллин, Самигулла Суюндуков, Искак Аюпов, Хабибулла Габясов, Сеитгалей Апсалямов, Ахмутдулла Калимуллин Абдулвагапов, Файрук Абдрашитов Махмутов, Гилязетдин, Сыразетдинов Манцуров, Рахматулла Мухамедов, Хусаин Мунасыпов, Нигматулла Забиров, Гариф Бибиков, Газильхак Искаков и многие другие.
За скобками этого повествования заметим, под командованием Дашкина в составе 14-го полка воевали и были награждены Георгиевскими крестами два ближайших предка будущего премьер-министра России Виктора Черномырдина.
После свержения самодержавия Дашкин был отозван в Оренбург. В последнем своем приказе по полку князь писал: «…Расставаясь ныне с полком, считаю долгом службы объявить
искреннюю мою благодарность всем гг. офицерам и молодым станичникам за их верную и честную службу на пользу дорогой Родине».
А потом случилось то, что случилось. По началу Дашкин не вмешивался в «революционные разборки», считая, что не гоже военному влезать в политику. Но гражданская война втянула в свой водоворот всех. Так генерал-майор Зюлькарнаин Шангиреевич Дашкин (это звание ему было присвоено в 1917 году – прим. авт.) оказался в рядах атамана Дутова и до конца испил горькую чашу поражения и изгнания. Увы, до сегодняшнего дня нет точных данных о месте и времени его смерти. По одной из версий он дожил свой век в Турции. Однако, это только версия. Дни прославленного генерала могли оборваться и во время «голодного» перехода в Китай (отступление белоказачьих соединений в Среднюю Азию и Китай – прим. авт.)…
В наши дни на территории бывшего Оренбургского казачьего войска живет немало потомков тех казаков-татар, которые на протяжении веков верой и правдой служили своему Отечеству. Увы, зачастую об этой странице нашего прошлого уже мало кто помнит. В свое время тема казачества вообще, а тем более мусульманства в казачьей среде, была под неофициальным запретом. Но к счастью времена меняются. И наш долг вернуть из небытия имена далеких предков.
2009г.
Мастеровые казаки
Одной из наиболее острых проблем в жизни оренбургских казаков на первоначальном этапе колонизации Новолинейного района и существования войска, как военно-административного образования, в рамках Высочайше утвержденного 12 декабря 1840 года Положения об Оренбургском казачьем войске (ОКВ), была нехватка мастеровых людей.
Согласно упомянутому Положению, на обширной территории войска запрещалось селиться людям неказачьего сословия, что, естественно, существенно ограничивало развитие ремесел в ОКВ. Но если в первые годы таких ограничений проблема решалась за счет крестьян, пожелавших перейти в казачье сословие и имевших навыки в ремеслах, то в последующем прослойка мастеровых людей среди казаков неуклонно сокращалась.
Повседневные потребности казаков в услугах ремесленников были немалыми. В данном случае необходимо учитывать, что казак был обязан иметь полностью снаряженную ездовую лошадь и личное обмундирование, соответствующее многочисленным регламентам. Все это приобреталось за счет собственных средств казака и ложилось существенным финансовым бременем на казачьи семейства. Но те же седло, сбрую, шинель, сапоги еще нужно было кому-то заказать. К этому следует добавить, что услуги ремесленников казакам были необходимы и в быту.
К середине 50-ых годов XIX века ситуация с нехваткой ремесленников обострилась до предела. В те годы в обширном и многочисленном ОКВ было всего лишь 10 седельников, 10 шорников и 65 портных.
Понимая всю остроту проблемы, Оренбургский и Самарский генерал-губернатор Александр Андреевич Катенин «…заботою о распространении между казаками Оренбургского казачьего войска ремесел…» обратился к Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору Павлу Николаевичу Игнатьеву с письмом, в котором просил его содействия «… о помещении к тамошним мастеровым нескольких казачьих малолетков для образования из них преимущественно седельников, шорников, сапожников и портных…». И такое содействие было оказано: Игнатьев дал согласие на обучение в столице 50 оренбургских казачьих малолетков.
11 мая 1858 года наказной атаман ОКВ генерал-майор Иван Васильевич Подуров подписал циркулярное письмо, в котором всем полковым правлениям предписывалось «… родителям малолетков внушать пользу обучения детей их мастерствам, так как они после сего могут быть им более полезными…». В этом же письме указывалось, что обучение малолетков в столице будет бесплатным, родители должны были оплатить лишь питание своих сыновей в дороге до Оренбурга. Свое согласие на отправку в Санкт-Петербург родители должны были дать не позднее 15 октября. В циркулярном письме Подуров особо предписывал начальникам станиц при формировании групп учеников отдавать предпочтение сиротам.
Во всех полковых округах был организован поиск желающих направить своих сыновей на учебу в столицу. В разных станицах результаты этой работы были неодинаковыми. Так, например, в станицах Верхнеувельская, Полетаевская и Кичигинская не нашлось ни одного желающего, а из Еткульской станицы в Санкт-Петербург отправилось сразу три малолетка.
Всего в ОКВ для учебы ремеслам была собрана команда из 121 малолетка, среди которых сын казака Каратабанской станицы Федор Викторович Петров, казачьи малолетки станицы Еткульской Иван Гордеевич Устинов, Илья Трофимович Салегаев и сирота Александр Ульев, подростки из Еманжелинской станицы Федор Владимирович Подшивалов и Артемий Павлович Печеркин…
В конце ноября 1858 года группа оренбургских малолетков выехала в столицу. На содержание учеников в дороге, оплату их обучения в Санкт-Петербурге и обустройство юных оренбуржцев в столице из войсковых сумм было выделено 4853 рубля 85 копеек серебром.
По прибытии в столицу малолетки были распределены по учебным группам. Их наставниками стали портной мастер Василий Ташкунов, портной иностранного цеха Преяр, мастер шорного цеха Иван Бурундуков, мастера сапожного цеха Иван Михайлов и Василий Чудов, мастер кузнечного цеха Александр Жидков…
Непростой была жизнь казачьих малолетков в Санкт-Петербурге, но они с успехом постигали азы ремесел, которым должны были посвятить свою жизнь. И уже через год новоиспеченные мастера-оренбуржцы вернулись на родину. Именно они стали родоначальниками династий казаков-ремесленников в Оренбургском казачьем войске.
2013г.
К вопросу «лености» оренбургских казаков
Впервые о «лени» оренбургских казаков я узнал, читая роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб». По сюжету произведения, сибирские крестьяне, проезжая станицы Новодинейного района, отмечали особенную неухоженность казачьих поселений. «Гонять этих лодырей некому» – изрек один из них…
Весной 1858 года, объезжая прилинейные станицы и редуты, наказной атаман Оренбургского казачьего войска генерал-майор И.В.Подуров приказал своим адьютантам вести дневник, который позднее лег в основу циркуляра №2446 от 31 декабря 1858 года. В этом письме, адресованном всем командиров полков, было отмечено:
«… В станице Краснохолмской дома плохи, под соломенными крышами, и только во всей станице не более 4 домов крыты тесом. Жители не стараются об улучшении своих жилищ. Между тем, как известно, они в 1857 году продали зерном до 90 тысяч пудов. Следовательно многие из них имеют достаточно средств для улучшения домов, а близость реки Урал дает им возможность приобретать по умеренным ценам сплавленный строевой лес. Поэтому гг. Командующим полками приохочивать казаков строить хорошие дома, и убеждать оставлять принятое ими еще в крестьянском звании обыкновение крыть дома соломою и камышом».
Не лучше дела обстояли и в других поселениях Новой линии. Например, в станице Константиновской «… дома без сеней и даже без крыш…», в отрядах Надежденском и Веренском «… много плохих домов с весьма ветхими крышами, некоторые полузакрыты дерном, без дворов…», в выселке Александровском Николаевской станицы «… некоторые дома полураскрыты, а другие вовсе без крыш…», в станице Кваркенской, заселенной переселенцами из Илецкого района, местные жители «… строят дома не на фундаментах, даже не подкладывая камней под углы, а кладут нижние венцы прямо на землю. Стены рубят без моха, который без затруднения можно получать из ближайшего озера…». Главной причиной подобного состояния поселков Подуров считал «нестарание жителей».
Наряду с замечаниями по строительству жилых домов наказной атаман обращал внимание на устройство дорог между поселками. В районе Великопетровской станицы им было замечено: «… от Великопетровской до Варны, а оттуда к Кулевчи и до Николаевской нет на дорогах пирамид, а зимой выставляются вехи из камыша, но на всем пространстве есть лес, и вехи можно выставлять из валежника…». В Ново-Орской станице дела в этом отношении обстояли, видимо, еще хуже. Во всяком случае, после обнаружения развалившихся пирамид на дороге Подуров распорядился «…станичного начальника урядника Вяскова удалить от должности». И опять упоминается «нестарание».
Понимая, что залогом благосостояния поселков являлось благосостояние всех жителей, наказной атаман особо интересовался тем, сколько хлеба сеют казаки? И в этом вопросе им было обнаружено немало вопиющих, по его мнению, фактов. Например, в Воздвиженской станице «… многие казаки, преимущественно из магаметан, даже большесемейных, имеют самое ничтожное хозяйство, некоторые семейства, заключающиеся из 8 душ, имеют по 1 лошади и засевают хлеба не более 1\2 десятины; другие же вовсе не имеют скотоводства и из-за своей лености нисколько не засевают хлеба». В Михайловской станице «… есть семейства, не имеющие лошадей и не засевающие нисколько хдеба, а именно 10 семейств не имеют лошадей, 37 семейств, у которых только по одной лошади; 17 семейств в 1858г. высеяли хлеба только по 1 десятине, 8 семейств по 1\2 десятине, 16 посева вообще не имели…». И далее в дневнике: «… из отзывов же станичного правления узнаю, что некоторые из казаков, не занимающихся хозяйством проживают в Троицке в работниках».
Трудно заподозрить наказного атамана в предвзятом отношении к жителям казачьих поселений, ведь сам он прослужил в этих краях уже два десятка лет и не понаслышке знал о всех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться новопоселенцам. Но вместе с тем атаман не мог не замечать, что царящая в казачьих поселках неустроенность, противоречащая всем Положениям о планировке и застройке казачьих поселений, являлась следствием недостаточного надзора со стороны командиров полков и явной нехваткой специалистов, способных грамотно распланировать и, что не менее важно, своевременно проконтролировать выполнение норм строительства.
Так были оренбургские казаки как-то по-особенному ленивыми? С одной стороны, безусловно, проявления относительной лености у части казаков имели место быть. Но при определенном административном воздействии на нерадивых эти проблемы, как правило, преодолевались. Но при этом важно учитывать, что значительное число поселений в Новолинейном районе заселялись разноплеменными людьми, каждый из которых имел свое представление о порядке и благоустройстве. Кроме этого, они имели и различный опыт обустройства жилых домов и надворных построек. Нельзя забывать и о том, что немало отрядов долгое время не могли найти удобного места для своего размещения. Общеизвестно, что изначально местоположение новых поселков было определено властями в соответствие с Высочайше утвержденными Правилами о переселении на земли Оренбургского казачьего войска казаков упраздненного Ставропольского калмыцкого войска, белопахотных солдат и солдатских малолетков. Однако малоизвестны случаи, когда поселки переселялись с указанных в Правилах мест в более удобные для проживания местности Новолинейного района. И такое случалось довольно часто. Причем, в некоторых случаях новые поселки переселялись по несколько раз. Понятно, что частые переезды сказывались на отношении жителей поселков к вопросам благоустройства населенных мест.
Возвращаясь к реплике сибирского крестьянина о «лени» оренбургских казаков, важно напомнить, что на казаков, в отличие от других сословий, возлагалось немало общественных повинностей. Ежегодно они отвлекались на военные сборы и нередко участвовали в военных операциях. Иными словами, до своего хозяйства у казаков часто не доходили руки.
За три года до описываемых здесь событий при Войсковом правлении были введены должности войсковых землемера и архитектора, которые должны были «… наблюдать за правильной постройкой общественных зданий, а также к устройству войсковых поселений по изданным в 1821г. правилам о порядке построения в казачьих войсках станиц и хуторов». Однако, как показывает циркуляр Подурова, на практике многое не соответствовало «правилам». Относительный архитектурный порядок в станицах будет наведен лишь в середине XIX века. Что же касается пресловутой «лености» оренбургских казаков Новолинейного района, то она в целом будет преодолена лишь к концу 80-ых годов XIX века их жизнь войдет в относительно спокойное русло, и станицы станут зажиточными.
2013г.
Наши2
В 1835 г. императором Николаем I был утвержден план переноса государственной границы вглубь степи. Граница была выпрямлена по линии Орск-Троицк. Этот участок государственной границы официально стал именоваться новой линией. Громадное пространство (более 10 тыс. квадратных верст) между старой и новой линиями получил название Новолинейного района, целиком присоединенного к землям Оренбургского казачьего войска.
В 1838 – 1848гг. на новолинейных землях было построено более 50 казачьих населенных пунктов, в том числе и поселки, ныне входящие в состав Чесменского района: Березинский, Натальинский, Тарутинский и Чесменский. Первопоселенцами этих поселков (поначалу их называли отрядами) стали казаки «старых» станиц ОКВ, переселявшиеся на эти земли казаки упраздненного Ставропольского калмыцкого войска, и белопахотные (безземельные) солдаты и малолетки, пожелавшие войти в казачье сословие.
Позже (вторая половина XIX- начало ХХ вв.) в границах современного Чесменского района были возведены казачьи поселки Углицкий (основан в 1860г. казаками Тарутинского поселка), Михайловский (современное название – Порт-Артур, основан казаками поселков Алексеевского, Судаковского, Чалкинского и Репина Донецкой станицы 1 военного отдела в 1903г.), Резутовский (современное наименование – Редутово, основан в 1903г. казаками пос. Никитинского Пречистинской станицы 1 военного отдела, Московский (основан в 1912г. казаками пос. Павловский той же станицы 1 военного отдела), Новоеткульский (основан казаками поселков Белоусовский и Тимофеевский станицы Еткульской 3 военного отдела в 1913 г.), Преображенский (современное название – Беловка, основан в 1915г. казаками пос. Беловский Уйской станицы 2 военного отдела), Черноборский (основан казаками пос. Уйский той же станицы 2 военного отдела в 1916г.).
Административное подчинение казачьих поселков, ныне расположенных на территории Чесменского района, не единожды менялось. К началу 1 мировой войны пос. Тарутинский находился в составе Михайловской станицы, Новоеткульский – в Кособродской, Черноборский – в Степной. Все остальные поселки до 1914г. входили в состав Березинской станицы. 24 декабря 1914г. наказным атаманом Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенантом Н. А. Сухомлиновым был подписан приказ №766 о разделении станицы Березинской на две самостоятельные станицы – Бородиновскую и Куликовскую. В состав первой были включены помимо прочих поселки Чесменский, Московский и Резутовский, а к Куликовской были отнесены поселки Березинский, Порт-Артурский, Натальинский и Углицкий. Однако, деятельность Березинского станичного правления продолжалась вплоть до 1917г., и все выше перечисленные поселки продолжали находиться в подчинении атамана Березинской станицы. Такое положение отразилось и на наградных приказах: казаки формально разделенной станицы продолжали числиться за Березинской станицей.
Эти особенности административного устройства ОКВ легли в основу поиска Георгиевских кавалеров, результаты которого изложены в данном издании. Станицы Березинская, Кособродская, Михайловская и Степная – это те военно-административные образования Оренбургского казачьего войска, к которым были приписаны наши предки.
2010г.
Малиновый звон на заре
В конце XIX века пассажирам почтовых тарантасов, отправляющиеся в довольно хлопотное по тем временам путешествие по столбовой дороге от славного города Троицка до станицы Степной, предстояло столкнуться с захватывающим дух от восторга эффектом. По благоухающей разнотравьем степи на десятки километров разносился перезвон больших и малых колоколов православных храмов. Заводилой этой прекрасной многоголосицы выступал большой соборный колокол Свято-Троицкого кафедрального собора. Ему вторили колокола всех двенадцати православных церквей Троицка, а вскоре к этому «хору» присоединялись и колокола церквей Новолинейного района. И, как описывают свидетели этого чуда, в хорошую погоду где бы не находился путник в эти минуты, он обязательно слышал звон колоколов. Настолько много было церквей в степи. Для чего и когда они появились здесь?
В тридцатых годах XIX века в столице империи было принято решение о переносе южной границы вглубь степи. С чем было это связано – тема отдельного разговора, но развернувшиеся вслед за этим события имели важнейшее историческое значение, как для России, так и проживающих на севере Казахстана родов киргиз-кайсаков (так в то время именовались казахи). Собственно, Младшая Орда еще в 1731 году добровольно вошла в состав России, но сей факт мира на границе не прибавил, хотя к тому времени Россия уже разрослась до побережья Тихого океана. С переносом границы громадный треугольник земли Орск – крепость Уйская – Троицк, который с этого времени именовался Новолинейным районом, стал заселяться людьми казачьего сословия. Для местного населения появление на этих землях россиян (а это были этнически не только русские, но и калмыки, нагайбаки, мордва, башкиры и другие народности) не было неожиданностью. Кочевавшие в этих краях казахские роды уже сто лет жили рядом с россиянами в мире и согласии. Свою роль в мирном вхождении России в Новолинейный район сыграли и хитрости дипломатии, которые проявляли чиновники оренбургского военного губернатора В. Перовского.
Отнюдь немирно встретили россиян роды, кочующие гораздо южнее. Подстрекаемые английскими резидентами, которым покою не давал набирающий силу металлургический центр Урала, вожди этих родов нередко направляли своих джигитов на погром строящихся новых поселений русских. От этих набегов нередко страдали и мирные соплеменники нападавших, которые вырезали сородичей целыми семьями, или, как тогда выражались, «кибитками». Словом, прибывающим на эти земли казакам приходилось не сладко. Нужно было строить станицы и редуты, но нельзя было забывать и о хлебе насущном, ведь казаки должны были кормить себя и свои семьи сами, при этом отражая атаки лихих кочевников.
Для современной молодежи, наверное, будет новостью узнать, что поселок Натальинский в свою бытность станицей в 1838 году подвергался набегам отрядов самопровозглашенного султана Кенисары Касимова. И таких станиц и поселков в Новолинейном районе было десятки. Служба первопоселенцев было опасной и трудной. К тому же нередко в одно поселение приезжали на службу выходцы из разных краев и волостей России, что естественно не могло не сказаться на взаимоотношениях людей.
Военный губернатор Оренбургской губернии В.А.Перовский, понимая важность создания для поселенцев не только бытовых, но и духовных условий, обратился с письмом на имя императора Николая I и Священного Синода, в котором просил мирские и духовные власти решить вопрос о строительстве храмов в Новолинейном районе. Его просьбу в столице услышали, но, как это нередко бывает, письма и циркуляры стали «гулять» из одного ведомства в другое. Бюрократов в России хватало всегда. В конечном итоге к 1851 году на Новой линии было всего лишь 3 одноклирных церкви и один молитвенный дом. Этого было явно недостаточно. Отсутствие в казачьих поселениях постоянно действующих культовых сооружений создавало почву для появления религиозных сект. А это могло привести к развалу всего Оренбургского казачьего войска. И тогда Перовский едет в столицу, и на аудиенции у Николая вновь подает прошение. Мы не знаем, о чем тогда говорили самодержец и губернатор, но после этой встречи в Новолинейном районе церкви стали возводиться одна за другой.
Первые упоминания о церкви на чесменской земле относятся к 1852 году. Но тогда это была еще не церковь, в прямом понимании этого слова, а молитвенный дом, или как написано в документе, «учебный сарай с земляным полом». Однако, в этом самом «сарае» уже служили священник и причетник (псаломщик), которые в 1952 году провели церковные обряды в отношении пятерых «духовного ведомства исповедавшихся и причастившихся». В 1854 году в отчетах появляется упоминание часовни в станице Чесменской, которую освятили как временную церковь, и дали ей имя Николая Чудотворца (Николаевская). В то время к церкви в Чесме были приписаны жители населенных пунктов станиц Тарутинской, Лейпцигской, Березинской и Бородиновской, в том числе « 933 души мужеского пола и 929 душ женского пола». Первые метрические книги для Николаевской церкви были приобретены в Москве, а церковная утварь – на Нижегородской ярмарке. Сегодня трудно судить, где и как долго стояли эти временные сооружения. Но, если учесть православные традиции строить храмы на «намоленных местах», то можно предположить, что и молитвенный дом, и часовня стояли там, где сегодня располагается районная детская библиотека и памятник Павшим Героям.