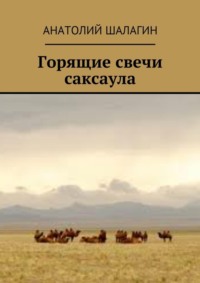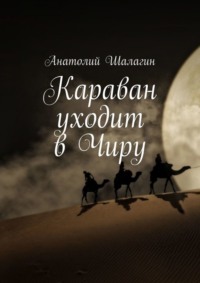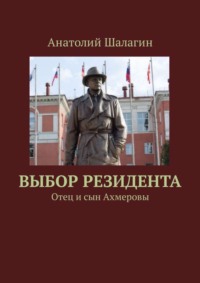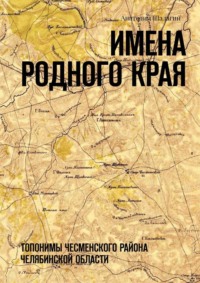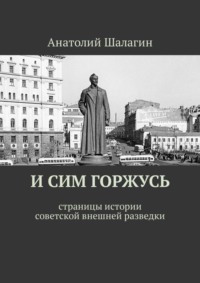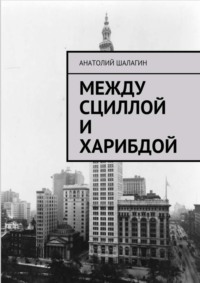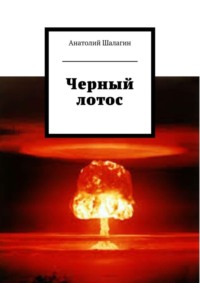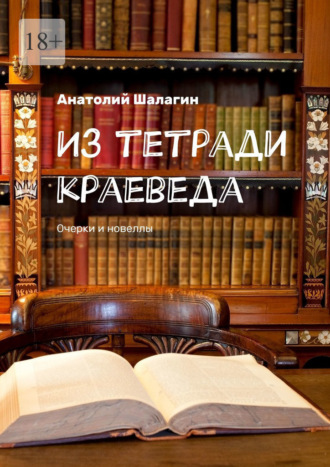
Полная версия
Из тетради краеведа. Очерки и новеллы
…А где же в это время был Орлов? Он не бороздил тяжелейшие морские мили, он ждал «свой» флот в итальянском Ливорно. Однако не следует думать, что граф преспокойно наслаждался жизнью в живописном уголке Европы. Орлов в это время сплетал весьма хитроумную комбинацию по вовлечению в войну греков и славянских народов, живущих под турецким гнетом. По задумке графа, восстание угнетенных в тылу Оттоманской империи должно было автоматически привести к успехам русской армии на сухопутном театре военных действий. А сигналом к началу восстания должно было послужить морское сражение, которого русский флот в буквальном смысле слова жаждал.
Орлов весьма внимательно следил и за многотрудным походом русских кораблей к Архипелагу. Причем, информацию о походе русских эскадр он получал раньше, чем императрица. Замечу, получаемые графом сведения отличались от доставляемых к престолу помпезных рапортов. Шифровки, приходившие в Ливорно непосредственно с борта флагманского корабля Спиридова, содержали в себе всю горькую правду о трудностях похода русских флотилий. А автором этих откровенных посланий был давнишний приятель графа по совместным кутежам, о которых в столице даже складывали легенды, Самуил Грейг – шотландец, верой и правдой служивший российскому престолу.
…Итак, после долгих скитаний русская флотилия все же вошла в Средиземное море и взяла курс на турецкий берег. К этому времени Алексей Григорьевич Орлов уже перебрался с берега на флагманский корабль и принял общее командование на себя. Поначалу его богатырский организм весьма трудно привыкал к морской качке, и большую часть времени граф проводил в своей каюте.
16 мая 1770 года группа кораблей под командованием Эльфинстона обнаружила турецкую морскую армаду вблизи бухты Наполи-ди-Романья. Шанс заблокировать турок в западне и методично их уничтожить подвернулся, скажем так, исключительный, но Эльфинстон… развернул русские суда в обратную сторону. Когда об этом узнал Спиридов, ярости адмирала (к тому времени он уже был удостоен этого звания – прим. авт.) не было придела. Обозвав англичанина трусом, Григорий Андреевич приказал всей русской флотилии двигаться к заветной бухте, но когда русские корабли прибыли на место, турок и след простыл.
Граф Орлов, превозмогая очередной приступ морской болезни, произнес, обращаясь к Эльфинстону: «Ни за тем мы сюда с такими трудностями и бедами добирались, чтобы бегать от басурманина».
История, как известно, не знает сослагательного наклонения. И нам не дано знать, как бы изменился дальнейший ход событий, случись разгром турецкого флота в бухте Наполи-ди-Романья. Вполне возможно, в XIX веке на южноуральской земле появилось бы станица с названием типа «Наполидироманская», но не было бы Чесмы…
Охота за турецким флотом продолжилась в Эгейском море. Орлов, уже попривыкнув к «болтанке», тем не менее, особо не вмешивался в повседневное руководство русской эскадрой, понимая, что лучше его с этим делом справятся Спиридов и Грейг. А сам он продолжал «дирижировать» подготовкой восстания на Балканах, ведя весьма интенсивную переписку со своими соратниками, ждавшими сигнала к началу боевых действий.
Погоня за турецким флотом длилась целый месяц. И вот, 24 июня (по старому стилю — прим авт.) в Хиосском проливе случился пролог будущей Чесменской виктории. Турецкая армада состояла из 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 51 прочих судов. Русская эскадра была куда более скромной – 9 линейных судов, 3 фрегата и 18 вспомогательных судов. Однако, на стороне русских было единство и бесстрашие. Команды же турецких судов, хотя и были опытными, но состояли в основном из наемных матросов различных стран. Были среди них греки и славяне, которые особо воевать против русских не хотели. Как тут не вспомнить Орлова и его тайную дипломатию, направленную, между прочим, и на ослабление боевого духа матросов неприятельского флота.
В 11 часов граф Орлов отдал приказ о начале атаки. Бой был довольно скоротечным – в два часа по полудню турецкий флот второпях начал покидать поле сражения и укрылся в Чесменской бухте.
Самым трагичным для русской эскадры моментом боя в Хиосском проливе был взрыв передового корабля «Святой Евстафий», на котором развивался штандарт адмирала Спиридова. Адмирал и его команда проявили потрясающее мужество и выдержку, в буквальном смысле протаранив 80-пушечный флагманский корабль турецкого флота «Реал-Мустафа». Русские матросы и офицеры по мачтам и реям перебрались на неприятельское судно, которое к тому времени уже полыхало, и учинили настоящий сабельный бой с турками. А пока шел этот бой, горящая мачта «Реал-Мустафы» рухнула на палубу русского корабля. Буквально через несколько минут один за другим раздались два мощнейших взрыва: сначала на воздух взлетел «Евстафий», а за ним и «Мустафа».
Орлов, видевший все это, был потрясен. Зрелище завораживало своей ужасной красотой. Однако, главная причина потрясения графа состояла в другом – на борту «Святого Евстафия» помимо Спиридова находился и брат Орлова Федор. Когда все улеглось, и турецкий флот ушел под прикрытие своей береговой артиллерии, выяснилось, что среди немногих, чудом уцелевших после взрыва, оказались и Григорий Спиридов, и Федор Орлов.
На следующий день русские методично обстреливали турецкий флот с дальнего расстояния. На своем корабле Орлов провел совет, на котором решалось, как уничтожить раненого, но все еще очень опасного врага. Было решено турецкий флот сжечь. Для этого из вспомогательных судов были сооружены четыре брандера (специально обустроенные легкие суда, начиненные горючими материалами – прим. авт.).
Общее руководство операцией в Чесменской бухте было возложено на Самуила Карловича Грейга. Выбор Орлова был неслучаен. Адмирал Спиридов получил ранение при взрыве «Святого Евстафия», но, как и подобает настоящему воину, рвался в новый бой. Графу даже пришлось утихомиривать старого вояку, подыскивая нужные слова, чтобы успокоить адмирала. Операция по уничтожению неприятельского флота требовала несколько иных подходов, чем бой в открытом море. Найти эти подходы мог только молодой и энергичный Грейг.
Итак, четыре русских брандера должны были подойти к турецким кораблям вплотную, намертво сцепившись с ними крючьями. Потом экипажам брандеров следовало поджечь свои суда и успеть при этом вовремя унести ноги. В противном случае русских моряков ждала неминуемая гибель.
Первый брандер под командованием капитана Гагарина был расстрелян турками на подходе к турецкой эскадре. Та же участь постигла и второй брандер, возглавляемый капитаном Дагдейлом. Более удачным, но малоэффективным, был маневр брандера под командованием капитана Маккензи. Его суденышко угодило в уже полыхающий турецкий корабль, подожженный палубной артиллерией русской эскадры.
Самым, определившим успех всей операции, стал маневр четвертого брандера, которым командовал лейтенант Дмитрий Ильин. Русское судно незаметно подкралось к 84-пушечныму турецкому фрегату, и вцепилось в него своими крючьями. Лейтенант Ильин отдал команду экипажу срочно пересесть в шлюпки и поджег брандер, который вспыхнул как спичка…
В своем дневнике Самуил Грейг чуть позже запишет: ««Пожар турецкого флота сделался общим к трем часам утра. Легче вообразить, чем описать, ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем. Турки прекратили всякое сопротивление, даже на тех судах, которые еще не загорелись; большая часть гребных судов или затонули или опрокинулись от множества людей, бросавшихся в них. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду; поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством несчастных, спасавшихся и топивших один другого. Немногие достигли берега, цели отчаянных усилий. Командор (граф Орлов – прим. авт.) снова приказал прекратить пальбу с намерением дать спастись по крайней мере тем из них, у кого было довольно силы, чтобы доплыть до берега. Страх турок был до того велик, что они не только оставляли суда, еще не загоревшиеся, и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесьмы, оставленных уже гарнизоном и жителями».
Потери турецкого флота были ужасны – около 11 тысяч погибших. А те, кому посчастливилось доплыть до берега, в ужасе бежали прочь. Следом за ними в бегство устремились жители и гарнизон Чесмы. Все они бежали в Смирну, куда и принесли страшное известие о гибели всего турецкого флота.
***
Последствия Чесменской победы для России и ее международного престижа были уникальными. Весь мир теперь воспринимал нашу страну как морскую державу, способную мощью своего военного флота решать геополитические вопросы.
Воодушевленный оглушительной победой Орлов испрашивал разрешения императрицы о походе русского флота на Константинополь – столицу Оттоманской империи. Для успешной реализации этого грандиозного плана были все предпосылки, но…
Историки прошлого, да и современные тоже, не могут найти ответа, почему же русский флот не пошел к вечному городу с его христианскими святынями, колыбели великой Византии, чьей духовной преемницей считалась Россия?
Одной из версий, проливающих свет на дальнейший ход событий, явилось предположение о заговоре масонов, не желавших допустить православных воинов к бывшей византийской столице. По их разумению, если бы это произошло, то влияние православия существенно бы подорвало позиции католицизма в Европе. Так ли это было на самом деле, сегодня уже не скажет никто. Однако, следует вспомнить, что в последующую за Чесменской победой блокаду русскими Дарданелл контр-адмирал Джон Эльфинстон (опять он! – прим. авт.) неожиданно для Спиридова и Орлова отвел свои суда от линии блокады и пропустил турецкие транспортные суда с многотысячным десантом в Эгейское море. За этот поступок, граничащий с предательством, Эльфинстон был разжалован со службы. А позже выяснилось, что он состоял в тайной масонской ложе.
Победа под Чесмой обеспечила господство русского флота в восточном Средиземноморье. Она же способствовала заключению в дальнейшем выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мирного договора (заключен 10 июля 1774г. – прим. авт.). Согласно этому договору Крымское ханство получило независимость (в следующую войну Крым станет частью России – прим. авт.), Россия оставляла за собой отвоеванные Керчь, Ени-Кале, Азов и Кинбурн, закреплялось право Российской империи на защиту и покровительство христиан в дунайских княжествах и прежде всего в Молдавии.
Пожалуй, самым важным итогом Чесменской виктории стало право России на создание своего полноценного Черноморского флота и беспрепятственный проход русских военных и торговых кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Именно после Чесмы влияние России на Балканах начало стремительно расти, и это, в конечном итоге, привело к обретению независимости многими народами южной Европы.
Сегодня мало кто уже помнит, что в период пребывания русских эскадр в Средиземноморье на многочисленных островах было создано Архипелагское княжество, центром которого стал остров Парос. Новое государственное образование изначально создавалось под протекторатом России. Конституцию для вновь создаваемого княжества собственноручно написал адмирал Спиридов. Увы, эти «русские» владения просуществовали недолго, всего 4 года. Но и за это время русскими было сделано немало по обустройству островов – строились школы и больницы, церкви и пристани…
***
Первые известия о колоссальной победе русского флота поступили в Петербург уже в июле. И новости эти шли от русских послов, работавших в Париже, Лондоне, Копенгагене… Конечно, Екатерину эти вести не могли не радовать, но на сколько они были верны, мог сказать только Алексей Орлов. А от него пока реляций не было.
Все встало на свои места, когда наконец-то к концу августа во дворец была доставлена депеша, подписанная графом. Орлов в своем письме императрице весьма подробно описал ход боевых действий, особо подчеркивая мужество и умения своих подчиненных – офицеров и рядовых матросов. Радости, охватившей Екатерину, не было предела. В сентябре она устроила грандиозные торжества по случаю Чесменской победы. Да такие, что находящиеся при дворе послы европейских стран ахнули.
В своем ответном письме, адресованном Орлову, самодержица начертала: «… Блистая в свете не мнимым блеском, Наш флот под разумным и смелым предводительством вашим нанес сей наичувствительный удар Оттоманской гордости. Весь свет отдает вам справедливость, что сия победа вам приобрела не отменную славу и честь…»
В ознаменование величайшей в истории России морской победы по указанию Екатерины в большом Петергофском дворце был создан мемориальный Чесменский зал, который украшали картины со сценами сражения. В 1775 году в Гатчине был возведен Чесменский обелиск. А в 1778 году в Царском селе вознеслась знаменитая Чесменская колонна, чья мини-копия сегодня украшает село Чесма на Южном Урале.
Кроме этого в столице были построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи. В память о Чесменской победе по специальному указу императрицы были отлиты золотые и серебряные медали. В этом указе говорилось: «Медаль эту жалуем мы всем находившимся на оном флоте во время сего Чесменского счастливого происшествия как морским, так и сухопутным нижним чинам и позволяем, чтобы они в память носили их на голубой ленте в петлице».
К слову замечу, медаль за участие в Чесменском сражении стала первым отличительным знаком в наградной системе России, когда награда носилась на груди. До этого все награды представляли собой крупные по размеру монеты, выполненные, впрочем, из драгметаллов.
В будущем (в 1883 г. – прим. авт.) в русском флоте появится броненосец с гордым именем «Чесма». А полувеком ранее указом внука уже покойной императрицы Николаем I одной из казачьих станиц, строящихся на Новой линии в южноуральской степи будет дано название «Чесменская».
Словом, память о великой победе в Чесменской бухте была увековечена и поддерживалась правящей династией Романовых вплоть до 1917 года. День 26 июня (7 июля по новому стилю – прим. авт.) в течение почти полутора веков был официальным государственным праздником.
***
Как это нередко бывает при свершении великих событий, вокруг Чесменской виктории почти сразу стали появляться легенды, которые не имели под собой никакой фактической основы. Но, тем не менее, легенды жили, обрастая всякий раз новыми подробностями. Парадоксально, но факт: многие легенды, связанные с Чесменской победой и ее героями, дожили и до наших дней. Об одной из них следует сказать особо.
И в веке XIX- ом, и в наши дни появлялись и появляются околонаучные публикации, повествующие о, якобы, имевшем место событии, последовавшем уже после сражения при Чесме. Согласно этим публикациям граф Орлов, находившийся на отдыхе в Ливорно, решил устроить для своей очередной любовницы представление и показать, как происходило великое сражение. Немного немало Алексею Григорьевичу приписывается поистине безумный поступок. Он, якобы, в угоду своей пассии сжег половину российского флота. Конечно, Орлов был горяч и, порою, по молодости вытворял бесшабашные поступки, но на сожжение флота он никогда бы не решился. Граф прекрасно понимал, что значит для России каждый военный корабль. И сколько этот корабль стоит.
Откуда пошла эта молва, сказать сегодня трудно. Думается, что истоки этой легенды лежат в несколько другом событии, которое действительно имело место. Выше уже упоминалось, что в ознаменование великой победы Екатерина распорядилась создать в Петергофе Чесменский мемориальный зал, который по ее задумке должен был быть украшен полотнами с изображениями сцен Чесменской баталии. Эти картины через пять лет после победы под Чесмой были заказаны известному в ту пору немецкому художнику Якобу Филиппу Хаккерту. Мастер выполнил заказ, но глянувший на полотна Орлов заявил, что изображенные на картинах горящие турецкие суда «горят» неправильно. На эту реплику графа художник ответил, что никогда раньше не видел, как горят корабли. Присутствующая при этом Екатерина предложила выход, позволявший исправить великолепные, но неточные полотна. Она разрешила Орлову сжечь на глазах у художника один из русских военных парусников, стоявших на рейде в Ливорно. Идя на это, самодержица российского престола рассчитывала напомнить Европе, да и Турции тоже, о Чесменской виктории. Но, видимо, людская фантазия пошла еще дальше и приписала Орлову сожжение половины российского флота.
***
Но вернемся к героям Чесменской победы. Все они были награждены и обласканы Екатериной. Но даже эти награды стали предметом обсуждения в дворцовых кулуарах, и постепенно придворные пересуды перекочевали в народ, превратившись со временем в очередные легенды и предания.
Конечно, главные почести и награды достались Алексею Григорьевичу Орлову, как руководителю всего сложного проекта. Он был награжден недавно учрежденным орденом Пресвятого Георгия Победоносца I степени. Ему было даровано право приписывать к своей фамилии приставку «Чесменский». В 1775 году граф вышел в отставку и в своем имении занялся разведением лошадей, которые теперь известны как «орловские рысаки». На закате своей жизни граф опять был приближен ко двору (при Александре I – прим. авт.) и именно ему было поручено формировать народное ополчение во время первой войны с Наполеоном, за что он был награжден орденом Святого Владимира I степени. Умер А. Г.Орлов в 1807 году. Его хоронила вся Москва.
Адмирал Григорий Андреевич Спиридов за победу при Чесме был награжден орденом святого Андрея Первозванного. В 1773 году 60-летний адмирал ушел в отставку. Он выпустил книгу своих воспоминаний, где главным событием своей жизни, конечно же, называл победу под Чесмой. Жил отставной адмирал затворником. И только один раз вышел в свет при полном параде. Это случится в 1789 году, когда станет известно о победе русского флота над турками у острова Федониси. В том же году великого адмирала не станет.
Самуил Яковлевич Грейг после победы под Чесмой был возведен в потомственное дворянство и награжден орденом Пресвятого Георгия Победоносца II степени. В 1775 году в Италии именно Грейг помогал графу Орлову заманить на корабль и вывезти в Россию самозванку «княжну Тараканову», объявившую себя претенденткой на русский престол. Вся его дальнейшая жизнь была неразрывно связана с Балтийским флотом. Он дослужился до звания командующего флотом, принимал участие во многих походах, был награжден орденами Святого Александра Невского и Святого Владимира I степени. Грейг так и умер на капитанском мостике в 1788 году. Императрица, очень ценившая адмирала, учредила по этому печальному поводу специальную памятную золотую медаль. А на его могиле самодержица повелела начертать: «Самюэлю Грейгу, шотландцу, командующему Российским флотом. Родился 1735, умер 1788. Его восхваляет Архипелаг, Балтийское море и спасенные от вражеского огня берега. Ему – вечная песнь и признание его заслуг и непрестанная скорбь великодушной Екатерины».
Отдельного рассказа требует судьба лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина. Долгие годы считалось, что именно его Екатерина обделила своими милостями. Мало того, людская молва разносила о жизни и судьбе героя Чесмы всякие небылицы. Долгое время в отечественной исторической литературе и даже в энциклопедических словарях по поводу Дмитрия Ильина преобладала одна единственная точка зрения, мол, сразу после победы в Чесменской бухте карьера его полетела кубарем вниз. А причиной этого, якобы, стали козни завистников и безудержное пристрастие лейтенанта к алкоголю. Свою лепту в поддержание этой, не подкрепленной никакими фактами, истории, увы, внес и признанный мастер исторической прозы В.С.Пикуль, опубликовавший в свое время миниатюру «Лейтенант Ильин был». В этом, без преувеличения сказать, образцовом историческом произведении автор почти слово в слово повторил циркулировавшие на протяжении XIX века слухи и сплетни об Ильине, которому Пикуль искренне сочувствовал.
Суть этих сплетен состояла в следующем. На Ильина, после совершенного им подвига, обрушилась настоящая слава. По прибытию в столицу он стал желанным гостем в домах многих знатных вельмож. И, конечно же, везде ему подносили бокалы вина и водки, от которых лейтенант не отказывался. А меж тем за его спиной началась возня завистников, которые любой ценой хотели принизить роль Ильина в Чесменской победе. И вот однажды пьяного героя привезли в Зимний дворец, чтобы представить его в непотребном виде Екатерине. А та, якобы, взглянув на пьяного в стельку лейтенанта, распорядилась убрать его с глаз долой. Ретивые царедворцы приказ императрицы интерпретировали по-особенному. Взяли и отправили Ильина на вечную ссылку в его имение, где он и умер в полном забвении и нищете. Так гласит легенда, оформленная Пикулем в литературную форму.
А реальность была иной. И она сегодня подтверждена документально. После Чесменского сражения Дмитрий Сергеевич продолжал служить в Архипелаге. 9 июля 1771 года по представлению графа Орлова императрица подписала указ о награждении Ильина орденом Святого Георгия Победоносца IV степени. В 1774 году ему было присвоено звание капитан-лейтенанта. Полученная в боях контузия отразилась на здоровье 37-летнего офицера – у него появились приступы падучей (эпилепсии – прим. авт.), и Ильин был вынужден вернуться в Россию. В Санкт-Петербурге он был причислен к корабельной команде. В 1775 году его произвели в капитаны 2-го ранга. 7 июля 1776 года императрица произвела в Кронштадте смотр эскадры, вернувшейся из Средиземноморья. После вручения наград на борту флагманского корабля «Ростислав» был дан званый обед, куда были приглашены офицеры, участвовавшие в Чесменской баталии. Был среди них и Дмитрий Сергеевич Ильин. В череде обязательных в подобных случаях тостов и здравиц Екатерина подняла бокал и предложила всем присутствующих выпить за славного героя Чесменской виктории Дмитрия Ильина.
В 1777 году в связи с ухудшением здоровья Дмитрий Сергеевич Ильин вышел в отставку. За особые заслуги ему было присвоено звание капитана 1-го ранга и назначен пожизненный пенсион. Всю оставшуюся жизнь герой Чесмы провел в своем родном сельце Демидиха. Жил он, и вправду, небогато, но не от кого ничего не просил и не требовал. Умер Д. С. Ильин в 1803 году, было ему 65 лет.
А потом о герое действительно начали забывать. Вспомнили о нем лишь много лет спустя. На стол императору Александру III лег доклад о месте погребения лейтенанта Ильина и о заброшенности его могилы. Император высочайше соизволил пожаловать из собственных средств тысячу рублей на постановку памятника славному герою. Вскоре на могиле Д. С. Ильина к 125-й годовщине Чесменской победы вознесся ввысь гранитный обелиск, увенчанный бронзовыми вызолоченными шаром, луной (полумесяцем) и восьмиконечным крестом. На пьедестале памятника высечены две надписи: на лицевой стороне – «Герою Чесмы лейтенанту Ильину». На противоположной стороне – «Сооружен по высочайшему повелению государя императора Александра III в 1895 году в воздаяние славных боевых заслуг». На боковых гранях помещены два медальона. На одном – бронзовый профиль Императрицы Екатерины II. На втором – копия медали в честь победы русских моряков при Чесме. На ней изображен горящий турецкий флот и вверху лаконичная надпись «Былъ». Стоит этот памятник и сегодня…
2010г.Чесма
Весной 1843 года по степному бездорожью запылили многочисленные обозы. Костяк этих обозов составляли переселявшиеся с Волги казаки упраздненного царским Указом ставропольского калмыцкого войска. К ним присоединились изъявившие желание вступить в казачье сословие семьи белопахотных солдат из четырех уездов Оренбургской губернии. Обозы шли на строго обозначенные места, которые были определены геодезической экспедицией, прошедшей в этих краях годом раньше. Станице Чесменской «достался» участок №27. Кто были первыми чесменскими поселенцами? Считается, что основателем Чесмы, как впрочем, и Тарутино, был хорунжий Брябрин. Именно он руководил закладкой этих двух станиц. Однако, среди других первопоселенцев следует назвать и ряд других фамилий – Сойновы, Котельниковы, Щелоковы, Чухвачевы, Ерахтины, Голиковы, Кошарновы…
Жизнь первых поселенцев Новолинейного района была крайне сложной и неспокойной. И хотя к середине пятидесятых годов XIX века острота приграничных столкновений между казаками и киргиз-кайсаками пошла на убыль, жизнь на границе была тревожной. Да и быт поселенцев был пока неустроенным. Казаки на новых землях поначалу строили землянки. Делалось это не столько из-за бедности и отсутствия строительных материалов, а из соображений прагматизма. Суровый климат здешних мест заставлял казаков «закапываться в землю». Землянки меньше продувались ветрами и требовали меньше топлива на обогрев. Да и с точки зрения определенной конспирации, необходимой в приграничье, землянки были менее приметными, чем срубы. С установлением относительного мира на Новой линии в казачьих станицах начали строиться деревянные дома. На эти цели поселенцам специально выделялась строевая древесина.