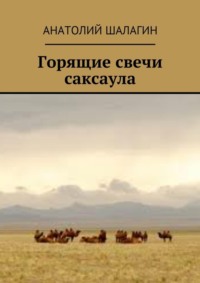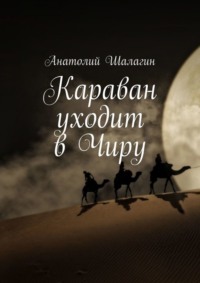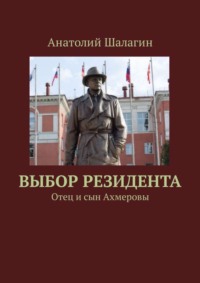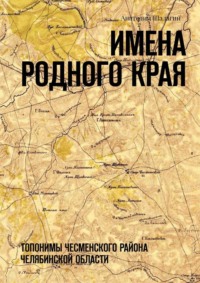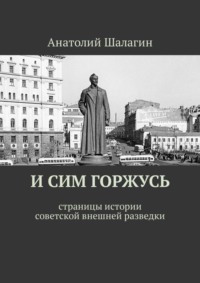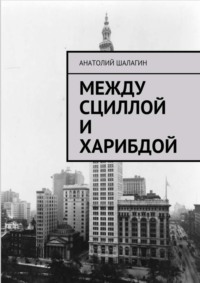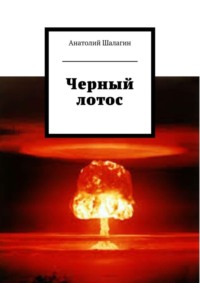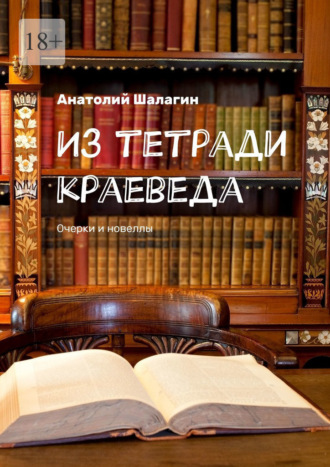
Полная версия
Из тетради краеведа. Очерки и новеллы
А в 1894 году на Атаманской площади Чесменской станицы, там, где сегодня стоит районный дом культуры, была построена уже постоянная деревянная церковь, которой, как и ее предшественницам, дали имя Николая. Увы, сегодня мы не можем назвать имена всех священнослужителей Николаевской церкви. Но все же часть имен история сохранила. Это Иосиф Левицкий, Константин Андреев, Константин Покровский… Последним настоятелем Николаевской церкви был Захар Петрович Пристинский, который в 1930 году по решению Троицкого райисполкома был раскулачен и выслан за пределы Троицкого района.
Архивные источники свидетельствуют, что церковь в Тарутинской станице была «…тщанием жителей Тарутинского поселка и с разрешения Преосвященнейшего Митрофана, Епископа Оренбургского, освящена в 15 день февраля 1873 года… во имя Архистратига Божия Михаила». Располагался этот храм в том месте, где сегодня стоят памятники воинской славы. Какой же была церковь, купола которой отражались в водах Тарутинского озера? Удивительно, но архивы сохранили и эту информацию не только для нас, но и для наших потомков. Читаем: «…храм деревянный, холодный, в один этаж, с решетками на окнах, с тремя деревянными дверьми. Полы в храме деревянные, церковь о двух главах, покрытых железом, кресты гладкие, железные позолоченные. Наружная поверхность опалубленная, крашенная по дереву, колокольня соединена с церковью, деревянная, всего колоколов 5. Ограда деревянная. Решетки у алтаря нет, иконостас деревянный, покрытый бронзой, двухъярусный, размером в 12 аршин, последний раз обновлялся в 1910 году, количество икон – 27. Киотов в храме 6 из резного позолоченного дерева…». Документы донесли до нас и имена священнослужителей Тарутинской церкви. Первым священником Михаилархангельской церкви был Иван Чулков, а дьяконом – Александр Разумов. Далее в храме служили Михаил Иванович Понамарев, Филипп Петрович и Михаил Петрович Юстовы, Особо следует сказать о последнем настоятеле церкви Иване Филипповиче Юстове. Свою «карьеру» он начинал дьячком в Чесменской церкви, а потом более 30 лет служил в тарутинском храме, вплоть до его закрытия. Наверное, не трудно себе представить, что творилось на душе у старого батюшки, когда с его родного храма снимали колокола. Сердце его не выдержало, он умер незадолго до своей предполагаемой высылки за пределы Челябинской области, и прах его покоится на местном кладбище. Но остались дети, которые вдоволь хлебанули судьбины «детей попа».
Чуть младше Тарутинской была Христорождественская церковь в Березинской станице, которую освятили в 1872 году. Этот храм, хотя и строился по типовым для того времени проектам, все же несколько отличался от своих «собратьев». За счет высокого фундамента и своего расположения, а он находился на холме, там, где сегодня разместился Березинский дом культуры, храм казался очень высоким. Церковь в Березинке, как, впрочем, и все храмы на территории современного Чесменского района, была одноштатной, т.е. в ней служил один священник. И это при том, что сама станица, являясь административным центром казачьего юрта, играла роль своеобразного районного центра. Иными словами, нагрузка на причт была очень большой. Последним настоятелем Христорождественской церкви был Лапшин (имя неизвестно – прим. авт.). Судьба его ничем не отличалась от судьбы его «коллег», священник был репрессирован. Память об этом батюшке жива и поныне. И это благодаря стараниям жители Березиновки В. В.Голикова, который сберег фотографию настоятеля храма. Сегодня ее можно увидеть в экспозиции районного краеведческого музея.
В 1894 году в поселке Углицкий была построена церковь во имя апостолов Петра и Павла). Церковь мало чем отличалась от своих «сестер» по внешнему облику. Но, если судить по единственной фотографии 30-ых, которая сохранилась в архиве, храм снаружи был частично отштукатурен и выбелен. Поэтому нетрудно себе представить, как красиво смотрелся белоснежная церковь на фоне зеленого леса. Увы, никакими документальными свидетельствами о Петропавловской церкви мы сегодня не располагаем.
Самым молодым храмом в нашем районе была Казанская церковь в поселке Порт-Артур, освященная в 1910 году. Первым и единственным настоятелем церкви был Курбатов (имя не сохранилось – прим. авт.). Судьба у этого храмам была более счастливой, чем у других церквей Чесменского района. Нет, его тоже закрыли, но в отличие от других культовых сооружений здание, хотя и перестроенное, осталось стоять на своем месте. Сегодня в нем располагается школа. Мало того, жители Порт-Артура сберегли и… купол храма. Как им это удалось, осталось загадкой. Но и по сей день на территории поселкового погоста можно увидеть этот, уже обветшавший от времени, купол с крестом. Даже в самые атеистические годы к этой святыне приходили люди и молились.
Неоднократно приходилось слышать, что церковь была и в поселке Натальинский. В фотоархиве упомянутого В. В. Голикова сохранилось фотография, на обратной стороне которой написано: «п. Нат-ка, церковь». Действительно на фотографии храм, который внешне, вроде бы, не отличается от церкви. Но в книге Н. Чернавского «Оренбургская епархия в ее прошлом и настоящем», изданной в 1902 году (а именно этот источник сегодня является одним из основных, на который ссылаются исследователи – прим. авт.), упоминаний о церкви в Натальинке нет. Однако, в Адрес-календаре Оренбургской губернии за 1909 год упоминается, что в поселке Натальинском существует деревянная часовня.
Церкви помимо чисто бюрократических процедур, связанных с регистрацией браков, рождений и смерти, проведением религиозных обрядов, занимались главным своим делом – укреплением духа жителей станиц и поселков. Конечно, с наступлением мира на границе жизнь казаков стала спокойнее и размереннее. Но даже в мирных условиях священнослужителям приходилось наставлять паству на путь истинный. Ведь мирная жизнь нередко искушала ни одну буйную головушку. Яркой иллюстрацией работы священнослужителей дореволюционной эпохи служат их решительные действия во время эпидемии холеры, которая разразилась в середине 80-ых годов XIX века в Троицком уезде. Эту заразу в наши края завезли купцы из Хивы и Бухары. Мор был сильнейший. Иногда, вымирали целые семьи. И началась паника, подогреваемая многочисленными слухами и сплетнями. Запаниковали даже врачи уезда. Они в спешке начали покидать Троицк, и это обстоятельство еще больше усилило панические настроения у людей. И тогда к православному люду обратились священники. Мы уже никогда не узнаем, какие слова утешения и успокоения они нашли, но паника, которая была страшней самой эпидемии, миновала. Кстати, именно к этому периоду относится появление легенды о Святом источнике, водой которого кропили все дома Троицкого уезда. Легенда эта жива и поныне.
Наступил 1917 год. Революционные бури, которые бушевали в столице, поначалу не коснулись Новолинейного района. К тому же новые власти объявили все 10 главных церковных праздников выходными днями и особых препятствий для верующих не чинили. Но грянула гражданская война, которая внесла раскол и в ряды духовенства. Хотя, иерархи церкви призывали не вмешиваться священников в мирские разборки, тем не менее, именно участие определенной части служителей храмов в белом движении станет в последующем одной из причин гонений против православия.
Гражданская война привела к упадку экономики и хозяйственного комплекса Новолинейного района. К этому добавилась печально знаменитая продразверстка. И произошло то, что и должно было произойти. Наступил голод. Почти в каждом дореволюционном населенном пункте нашего района есть братские могилы тех, кто пал жертвой той страшной трагедии. Церковь не могла остаться в стороне от этой беды, и помогала голодающим, как могла.
Церковь в целом спокойно отнеслась к экспроприации церковных ценностей. Только в одной провинциальной Тарутинской церкви в 1922 году было конфисковано драгоценностей общим весом 10 фунтов 59 золотников (примерно 6 кг- прим. авт.). Голод отступил. Началась относительно спокойная и размеренная жизнь. Но стала набирать обороты антирелигиозная пропаганда. Религия стала «опиумом народа». Методы атеистической агитации были самыми различными. Моя бабушка, жившая в Репьевской волости Оренбургской губернии, рассказывала, как по деревням ходили «голые» парни и девушки с табличками на груди: «Бога нет, стыда нет». В те годы «голый» и «одетый в исподнее» означало практически одно и то же. Нетрудно себе представить, какой общественный резонанс имела такая агитация. Но церкви действительно стали пустеть.
Здесь я приведу без комментариев достаточно обширную цитату из запрещенной ранее книги Николая Евсеева (комиссар дивизии, член Оренбургского Губисполкома, репрессирован в 1937 году по делу маршала Блюхера – прим. авт.) «О прошлом и настоящем оренбургских казаков», изданной в Самаре в 1929 году. Итак, «… в современной станице в праздничный день вы не увидите в церкви ни одного молодого казака. Казаки охотно учувствуют во всех антирелигиозных кампаниях, чего не было в первые годы революции. Наиболее религиозной частью казачества надо считать старух, стариков и часть молодых женщин казачек. Но очень часто можно встретить и стариков и старух, не верящих в бога. Казаки имели особое отношение к попам еще до революции; это отношение к настоящему времени обострилось, и часто казаки называют попов всякими оскорбительными именами. Бедняков-казаков, настроенных религиозно не так много: у нас нет точного учета их, но характерно такое обстоятельство, что при призыве на военную службу, на всяких телесных осмотрах и в других случаях соприкосновения с казаками по количеству крестов, до известной степени, можно судить о социальном положении и степени религиозности казаков: кулаки-казаки приходят с крестом на груди, реже середняки, а бедняки – крайне редкое исключение. На допризывников рождения 1907 года из 120 человек казаков станицы Н.-Павловской только один был с крестом (его подняли на смех товарищи, и он снял его): «Что же товарищ, наверное, в попы или дьякона метишь…».
А потом по всем весям пошла волна закрытия храмов. 27 августа 1933 года Троицкий райисполком издает постановление №995, в котором запрещался колокольный звон на территории уезда. Сами колокола подлежали демонтажу и отправке на переплавку. Вместе с колоколами зачастую снимались и кресты. И по сей день по нашим поселкам из поколения в поколение передаются рассказы очевидцев, как это происходило. Храмы «не хотели отдавать» своих колоколов. У разрушителей постоянно что-то не ладилось и ломалось. Кого-то шибануло тросом. Будто вселенская сила сопротивлялась вандалам. Но «ломать, не строить», колокола были сняты.
К рассказу о колоколах следует добавить, что для каждого храма колокола отливались не по шаблону, поэтому колокольный звон церквей был различным. И прихожане даже в многоголосии звуков безошибочно узнавали свой родной колокол. В этой связи весьма показателен рассказ все того же В. В. Голикова который, вспоминая своего отца, переехавшего в начале 30-ых годов из Березинки в Магнитогорск (с началом кампании раскулачивания многие середняки, опасаясь репрессий, вырезали скот и выезжали в город – прим. авт.), поведал удивительную историю. Суть ее такова, однажды на металлургический завод для переплавки была доставлена очередная партия колоколов. Перед отправкой в печь колокола необходимо было разбить на куски, что делалось кувалдами вручную. И вот наш земляк, работая в совершенно другом цехе, сквозь грохот станков и прессов услышал набат родного березиновского колокола. Он побежал к тому месту, где разбивали колокола и точно, на одном из осколков прочитал: «Церковь Рождества Христова. 1872. ст. Березиновская».
Долгие годы в обезглавленных и онемевших храмах были склады, школы, клубы… А потом и их снесли. Хотя и сегодня еще в нашем районе стоят дома, которые были построены из церковных бревен. Говорят, что в этих домах царят мир и согласие.
2008г.
Участие казаков второго и третьего военных отделов Оренбургского казачьего войска в сражениях первой мировой войны3
Накануне Первой мировой войны (1 МВ) казаки 2 и 3 военных отделов (2 ВО и 3 ВО) Оренбургского казачьего войска проходили действительную службу в 1-ом Оренбургском казачьем Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку (1 ОКП), 3-ем Уфимско-Самарском казачьем Оренбургского казачьего войска полку (3 ОКП), 4-ом Исетско-Ставропольском Оренбургского казачьего войска полку (4 ОКП) и 5-ом Оренбургском казачьем атамана Магутова полку (5 ОКП). Первые два дислоцировались в Киевском, остальные – в Туркестанском военных округах.
Наряду с этим казаки 2 ВО проходили службу в 2-ой Оренбургской казачьей батарее, входившей в состав 1-ой Туркестанской дивизии, и в 5-ой льготной Оренбургской казачьей артиллерийской батарее, дислоцировавшейся в г. Верхнеуральске.
За счет казаков 3 ВО комплектовались Оренбургский казачий дивизион в составе 22-го армейского корпуса с дислокацией в г. Гельсингфорсе (Хельсинки), 3-ья батарея 1-го Оренбургского казачьего дивизиона 2-ой сводной казачьей дивизии 12-го армейского корпуса Киевского военного округа, 2-ая Оренбургская казачья отдельная сотня 24 армейского корпуса Казанского военного округа, расквартированная в гг. Кустанае и Иргизе, а также 6-ая льготная Оренбургская казачья артиллерийская батарея в г. Троицке.
Кроме этого казаки 2 ВО и 3 ВО, прошедшие специальный отбор, проходили действительную военную службу во 2-ой Оренбургской сотне Лейб-гвардии Сводно-казачьем полку, расквартированном в г. Гатчина.
Общая численность казаков 2 ВО и 3 ВО, находившихся на действительной военной службе к началу 1 МВ, составляла около 2650 человек.
В ходе 1 МВ Оренбургское казачье войско прошло через тотальную мобилизацию: было выставлено 18 конных полков, 40 отдельных и особых сотен, отдельный дивизион, 8 конных батарей; в действующую армию было призвано более 35000 оренбургских казаков.
Казаками 2 ВО были укомплектованы 9-ый и 10-ый полки второй очереди, 15-ый и 16-ый полки третьей очереди, а также 12-21-ые особые конные сотни и 5-ая конно-артиллерийская батарея.
3 ВО в военное время комплектовал 11-ый и 12-ый полки второй очереди, 17-ый и 18-ый полки третьей очереди, а также 22-33-и особые конные сотни и 6-ую конно-артиллерийскую батарею.
Объявленная мобилизация в целом была завершена уже к концу первой недели августа 1914г. В телеграмме, адресованной военному министру, оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска генерал-адъютант Н.А.Сухомлинов сообщал: «… все полки второй и третьей очереди и все батареи благополучно собрались и своевременно выступили на поле брани. Царевы станичники готовились к походу спокойно, уверенно и с благоговением. На войну хотят идти все без исключения. С гордостью докладываю, что общая мобилизация прошла в безупречном порядке и не вызвала никаких затруднений… В настоящее время все полки и батареи войска находятся на театре военных действий, многие – на земле супостата-немца и бьют его».
Начало войны, названной современниками великой и второй Отечественной, породило в российском обществе высокие патриотические чувства. Иногда это принимало довольно необычные формы. Оренбургское казачье войско не стало исключением. Уже через 3 недели после начала боевых действий казаки Оренбургского казачьего войска обратились с прошением к властям с просьбой «… снять с войска немецкое название и наименовать его другим именем, по воле и желанию своего Державного Вождя». Эта инициатива имела продолжение – 14 апреля 1915г. Оренбургская городская дума рассматривала вопрос «О переименовании Оренбурга».
Но самым ярким проявлением патриотических настроений стало стремление нестроевых казаков попасть в действующую армию. Прошения о призыве подавали и те, кто еще не подлежал призыву, и те, кому в силу возраста призыв не грозил. Так, добровольцами на фронт отправились подхорунжий Звериноголовской станицы 3 ВО, Георгиевский кавалер, награжденный в период русско-японской войны, Николай Петрович Пономарев, 62-летний казак Березинской станицы 2 ВО Иван Тимофеевич Труфанов, награжденный знаками отличия Военного ордена 2, 3 и 4 степеней за среднеазиатские походы и многие другие.
С первых дней войны оренбургские казаки принимали активное участие в боях. Находившийся в составе 3-ей армии Юго-Западного фронта 1 ОКП участвовал в Галицийской битве (05.08.-08.09.1914г.), в ходе которой русская армия овладела восточной Галицией и Буковиной, захватила г. Львов и осадила крепость Перемышль (Пшемысль).
08.08.1914г. у с. Ярославица между русской 10-ой кавалерийской дивизией генерала Ф. А. Келлера и австрийской 4-ой кавалерийской дивизией генерала фон Заремба состоялся встречный бой, в ходе которого конница врага была полностью разгромлена. За этот бой более 30 казаков 1 ОКП были представлены к награждению Георгиевскими крестами и медалями. И это неслучайно – казаки проявляли стойкость и героизм. Например, казак Березинской станицы 2 ВО Федор Ильин «… раненный пулей в спину оставался в строю и предупредил обход сотни с правого фланга», а казак той же станицы Василий Кожевников «… во время атаки личным примером храбрости увлекал казаков в рукопашной схватке». К началу декабря 1914 года Георгиевскими крестами 2, 3 и 4 степеней было награждено 146 нижних чинов 1 ОКП.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
12 июля 2012г. Указом Президента РФ был установлен День воинской славы в честь победы русского флота в Чесменской бухте Эгейского моря (7 июля). Свой вклад в установление Дня воинской славы внесли жители Чесменского района: в 2010г. в Чесме было собрано около 3000 подписей под обращением к Президенту РФ.
2
Из предисловия к книге В. И. Завершинский, В. Г. Семенов, А. В. Шалагин. Самоотверженные. Именной справочник. – Еманжелинск. ОАО «Еманжелинская городская типография»; 2010 – 102 с.
3
Гороховские чтения: материалы пятой региональной музейной конференции. – Челябинск, 2014. – 436с.