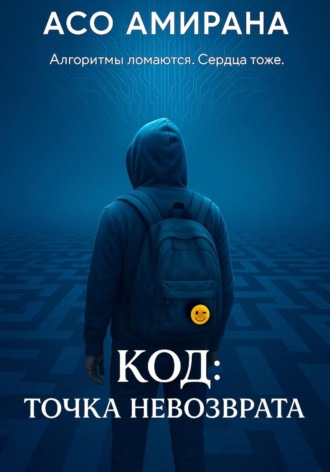
Полная версия
КОД: ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Я никогда не знала своих биологических родителей. Не знала – и не искала. Где они? Живы ли? Родились ли у них после меня еще дети? Я не задавалась этими вопросами. Да и что толку – искать тех, кто оставил тебя сразу после рождения? Иногда легче прятать голову в песок, чем смотреть в глаза истине.
Почти сразу после рождения врачи поставили диагноз: ревматизм. С риском поражения сердца. Требовалось длительное лечение. Возможно, именно поэтому меня и оставили в больнице – без имени, без фамилии, без следа.
Если бы кто-то взглянул на мою жизнь целиком, с самого начала, – сказал бы: одни сплошные черные и белые полосы. Иногда, конечно, случались яркие пятна, но их было немного. Жизнь без фарфора, без витрин.
С годами учишься симулировать чувства. Точно рассчитывать эмоции: сколько дать, сколько взять, чтобы не остаться пустым. Проживать их, как сомелье оценивает вкус вина: чуть пригубил, проникся и тут же отпустил. Некоторые эмоции, если дать им волю, способны разрушить. Их нужно держать в узде, как строптивую кобылу, и говорить:
– Тише, милая, слышишь? Спокойно, дуй и вей.
В мире незрячих слепой не чувствует себя другим. Он среди своих нормальный. А в мире шумных и ярких я – эмоциональна. Слишком. От природы. Не знаю, откуда это: то ли наследие раннего опыта, то ли просто я – такая. Мне не так важны мои чувства, чтобы их анализировать. И мысль найти единомышленников казалась мне неважной. Все ли у меня хорошо?
Но в тот день – серый, пасмурный, с дождем – холод и тенек были не только на моей стороне. Они были и у Хайруллиных, потерявших первенца.
Они не могли оправиться от новости, что после тяжелых родов больше не смогут иметь детей. Их мечта, их надежда на шумный дом с детским смехом – рассыпалась в прах. Это была трагедия.
А самое страшное в таких трагедиях – тишина, которая следует после.
Когда у людей отнимают что-то по-настоящему желанное, многих охватывают чувства страха и ярости. С возрастом это только усиливается – слишком долго они шли к мечте, слишком много вложили, чтобы отпустить все просто так. Потому и потеря становится для них непереносимой.
Именно это переживала Майя Хайруллина, глядя на безжизненное тело своего первого – и, как она тогда думала, последнего – ребенка.
Она стояла в каком-то оцепенении, не отводя взгляда, будто пыталась запомнить каждую черту, каждую линию крошечного лица, будто надеялась, что память удержит то, что жизнь отняла. Наверное, она продолжала бы смотреть, если бы не крик.
Где-то неподалеку плакал младенец – плакал пронзительно, неутешно, будто звал ее, будто чувствовал, что именно она должна подойти.
Майя вздрогнула. Весь мир, только что суженный до одной точки боли, вдруг дернулся – и распался на дрожащие фрагменты.
А дальше – как в тумане.
Она не помнила, как оказалась рядом. Не заметила, когда младенец сжал ее палец своей крошечной ладонью – так крепко, как будто знал, что нельзя отпускать.
Не отдавала отчета, как очутилась в кабинете врача, слушая его срывающийся голос, говорящий что-то об отказе, о документах, об этом ребенке.
Знак?
Судьба?
Случайность?
Майя не знала.
Но знала одно – мысль вернуться домой одной была невыносимой.
Дом, где их с Айдаром ждала детская – светлая, наполненная любовью, ожиданием, мягкими игрушками и надеждой, – теперь казался чужим. Как будто все внутри умерло вместе с дыханием того, кого она не успела обнять.
Айдар, заметив странный блеск в глазах жены, удивился. Но в глубине души воспрянул: любые чувства были лучше, чем пустота и отрешенность, поселившиеся в ней в последние дни. Она села рядом, взяла его за руку и – с той самой любовью, которую он так хорошо знал, – сказала:
– Айдар, я хочу удочерить ее. Это судьба.
Он не ответил сразу. Она продолжала, с дрожью в голосе, вглядываясь в его глаза:
– Я не смогу вернуться домой одна. Ты бы видел, как она вцепилась в мой палец, ее крошечная ладошка – голос ее задрожал, в глазах блестели слезы.
Айдар понимал – не просто слышал, а чувствовал – ее боль. Он знал, как страшно для нее это осознание: больше никогда не стать матерью. И он сам, если быть честным, тоже хотел бы, только чуть позже, когда боль поутихнет. Но, похоже, у Майи не было этого «позже». Он чувствовал: если она выйдет отсюда без ребенка, в ней что-то сломается окончательно. И он сдался.
– Мы справимся, – шептала она, будто стараясь передать ему свою веру. – Я знаю. Мы будем ее любить, заботиться о ней. Она облегчит нашу боль, а мы – залечим ее одиночество. Это будет честный обмен.
Он слушал и кивал. В темноте, что окружила их в последние дни, это была единственная искра света.
Иногда для счастья человеку не хватает всего одной детали. И, возможно, в их случае – это и был тот самый недостающий фрагмент.
Глава 13
Некоторые семьи складываются из крови.
Другие – из выбора. И только такие семьи – нерушимы.
Меня назвали Мари.
Мама сказала, что это имя интернациональное. «С ним ты не потеряешься нигде. Ни в одном языке, ни в одном уголке мира», – говорила она, заглядывая мне в глаза, будто убеждала не только меня, но и себя. Тогда я не знала, что это станет правдой. Что однажды судьба забросит меня куда-то, где мое имя будет единственным якорем, напоминанием о том, кто я есть.
Мы самая обычная среднестатистическая семья. Как много нас таких, но в то же время мы особенные друг для друга. Мы – как старое кресло с потертыми подлокотниками. Не модное. Не дизайнерское. Зато свое. Родное. Единственное, в котором можно заснуть, завернувшись в плед, и не бояться, что кто-то выгонит.
Отец… Ах, отец.
Сложный человек. Не мягкий, прямой, с тяжелым взглядом. Автомеханик. Говорил всегда честно, часто – слишком честно. Настолько, что иногда даже мама краснела за него. Но люди все равно шли к нему. Потому что знали: обмануть – не обманет. Сделает – так, что даже японцы обзавидуются.
– Запомни, Маро, – говорил он. – В мире обмана честный человек – как алмаз. Все ищут, но не все могут позволить.
Да, он звал меня Маро. Не Мари. Жестче. По-мужски. Он хотел сына. Очень. Но судьба распорядилась иначе. И я старалась быть этим сыном. Пусть и с косичками. Пусть и в юбке.
Мама была другой. Спокойной. Мягкой. Светлой. Человек, который умеет варить борщ так, что у тебя с первой ложки начинают работать все чакры. И еще – тот самый человек, который может словом пригладить любую бурю.
Мы жили просто. Трешка недалеко от центра. Старая мебель, надежная посуда, кухонные часы, которые все время спешили. И вечный запах еды. Теста. Супа. Выпечки. Дом, в котором тебя любят, пахнет выпечкой. Это закон.
С детства я росла упрямой. Взбалмошной. Такой, что и взрослые иногда сдавались. В садике дралась. В школе – дралась. На улице – дралась. Поводов не требовалось. Один раз меня вызвали к директору за то, что я… откусила однокласснику ухо. Немного. Самую капельку.
– Жива? Жива, – прокомментировал отец, когда услышал. – Ничего. Теперь этот сопляк десять раз подумает, прежде чем к моей дочери полезть. Пусть радуются, что только ухо, а не без «Фаберже» остался.
Мама тихонько плакала. Отец – гордился. Баланс.
А потом было детство, которое пахло больницей. Каждые две недели – Москва. Лечение. Уколы. Анализы. Я не знала, что значит «нормальное детство». Зато знала, как незаметно слинять из стационара и купить на вокзале самую вредную в мире ватную конфету. Знала, как звучат шаги медсестры в четыре утра, когда ты притворяешься спящей.
Лучшие воспоминания – с бабушкой. Она превращала любой больничный день в приключение. С ней мы сбегали на метро, ели жареные пирожки, смеялись, плели друг другу косы и обсуждали, кто из врачей самый симпатичный.
Когда мне исполнилось десять, врачи сказали:
– Все позади.
Мама плакала от счастья. Отец крепко прижал меня к себе, как будто боялся, что, если отпустит – потеряет. А мне было… странно. Я вдруг поняла, что закончилась эпоха. Эпоха больничных поездок. Эпоха беззаботного приключения под названием «ты еще не совсем здорова, и тебе нельзя все».
С тех пор бабушка больше никогда не брала меня в самовольные походы по городу. Как будто вместе с диагнозом исчез и наш маленький заговор против жизни.
Все лгут. Некоторые – понемногу.
Некоторые – только когда вынуждены.
А некоторые – профессионально. Как журналисты. Или политики.
Я быстро поняла: если хочешь быть собой – забудь о том, что кто-то когда-то тебя поймет. Мир – не про понимание. Мир – про выживание.
Меня никогда не интересовали, как говорят, «девчачьи» вещи. Куклы? Нет. Танцы? Нет. Я мечтала бить по груше. Учиться отвинчивать гайки. Менять тормозные колодки. Сидеть рядом с отцом под днищем старого форда и слушать, как он ругается на тупых владельцев, которые вечно «сами все чинили, а теперь не заводится».
– Маро, – говорил он, – помни, человек, который не боится испачкать руки тяжелой работой, – будет жить.
Я росла без фильтров. Без розовых пленок на глазах. Без сахарных оболочек и утешительных фраз вроде «все всегда будет солнечно». Потому что никто и никогда мне этого не обещал.
Здесь вообще никто никому ничего не обещал.
Все, что ты хочешь, – ты создаешь сам. Или не создаешь. И тогда – добро пожаловать на обочину.
Сиди, смотри, как другие проезжают мимо, и молчи. Потому что здесь не ждут. Здесь не подбирают.
Вот на этой честной, грубой, местами жестокой формуле и строилась моя жизнь.
Ровно. Холодно. Без иллюзий. Без надежд – но и без разочарований.
Я не верила в чудеса. Не верила в спасение. Не верила, что кто-то когда-то протянет руку просто так – не потому, что ему выгодно, а потому, что ты просто человек, которого стоит спасти.
А потом однажды…
все перевернулось.
И с тех пор я больше не уверена – была ли та жизнь настоящей.
Или вот эта, что началась после него.
Глава 14
То, как стремительно может измениться привычная, даже скучная жизнь, всегда меня пугало. Неизвестность выбивает почву из-под ног, а ощущение потери контроля – парализует. Мы никогда не можем быть уверены ни в завтрашнем дне, ни даже в следующем вдохе. У всего есть конец.
Когда мне исполнилось десять, живот у мамы начал заметно округляться. Она всегда была худой, и перемены пугали. Мы все – и я, и даже бабушка – решили, что мама больна. Но врачи огорошили: никакой болезни нет, просто беременность. Пятый месяц. Мальчик.
Мы с бабушкой переглянулись в недоумении. Мама с отцом – в шоке. Но на их лицах появилось выражение такого счастья, что я запомнила его навсегда. Особенно – глаза отца. Он смеялся, заикался от волнения, обнимал нас всех по очереди, словно боялся, что, если остановится, – проснется.
Но моя радость была недолгой. На второй день я узнала, что приемная. Просто. Сказали. Аккуратно, но без подробностей. Они и не собирались скрывать – просто хотели рассказать, когда я стану взрослой. Но судьба, как всегда, не спросила. Белая полоса закончилась. Я почувствовала, как рушится весь мой уютный, понятный мир.
Теперь многое стало на свои места. Светло-каштановые волосы, большие глаза – ни малейшего внешнего сходства ни с кем из семьи. В голове вертелось только одно: а вдруг меня отправят обратно?
Я перестала есть, ночами не спала. Вспоминала все свои детские выходки, наши ссоры – и везде искала поводы, по которым меня могли «разлюбить» и вернуть обратно. Соседи поздравляли с будущим братом, а я смотрела на них, будто из стеклянного шара. Я хотела спросить: надолго ли я тут?
Я винила младшего брата, еще не родившегося. Он стал символом утраты моего места в семье. Он даже не появился, а уже будто вытеснил меня из пространства любви и тепла. Я чувствовала себя лишней. Все, что было до этого: радость, значимость, уверенность, – поблекло и исчезло.
Родители заметили мою перемену. И часто говорили, как любят меня. Как и то, что я – лучшее, что с ними случалось. Что всегда будут рядом. Эти слова были нужны мне как воздух. И страх отступил, но внутреннее напряжение не уходило.
Я все равно злилась на него. Он стал символом того, что я – больше не в центре. Что мое место занято. Меня вытеснили. Мягко, но безвозвратно. И вдруг все, что было раньше: радость, уверенность, ощущение нужности, – потускнело.
Я решила быть идеальной. Не болеть. Не плакать. Не мешать. Тихой. Удобной. Послушной. Ангелом, заслуживающим любовь. Хотя… это было совсем не про меня. Я – настоящая – была шумной, упрямой, мечтательной, капризной.
Разве не удивительно, как человек может измениться в одночасье? Удивительно, как люди не понимают, как важно сохранить себя на этом пути. Но чтобы найти равновесие, придется столкнуться и с утратой.
Когда папа с бабушкой поехали забирать маму из роддома, нас с дедушкой оставили дома – накрыть на стол и просто быть на месте, чтобы встретить их. Помню лица, сиявшие от счастья, и свои робкие взгляды на малыша. А потом мама аккуратно положила его мне на руки, и я, затаив дыхание, смотрела, как он, крохотный и чудесный, спокойно сосет соску. Я так боялась его уронить, что вцепилась в него изо всех сил – не отдавая, не мигая, не веря, что это теперь наш малыш. В ту самую секунду он будто забрал мое сердце без спроса.
Имя мне разрешили выбрать самой. Я не стала долго думать – просто выкрикнула:
– Дени!
Я где-то слышала это имя, оно мне понравилось – и этого было достаточно. Смысл, происхождение – неважно. Главное – звучит красиво. Я решила, что буду для него лучшей сестрой. И правда старалась.
А жизнь тем временем шла своим чередом. День за днем, шаг за шагом, месяц за месяцем – от земли до луны. Это были светлые, беззаботные времена. Родители, вдохновленные рождением Дени, не хотели останавливаться на одном ребенке. Через три года я случайно услышала, как мама шепчется с подругой:
– Врач сказал, будет двойня.
Я сразу поняла: перемены на пороге. И не ошиблась.
Теперь я восприняла новость куда спокойнее. Опыт был, радость – тоже. Но в глубине души понимала: все изменится. Семья растет – и это неизбежно скажется на мне. Когда ожидание стало известным всем, родители приняли решение: продать квартиру в центре и переехать в пригород, к бабушке с дедушкой. У них был большой участок земли, и решили на его половине построить дом, а пока – ютиться в их доме.
Беременность у мамы на этот раз протекала тяжело. Она почти сразу ушла в декрет – и так из него и не вернулась. Закрепилась в статусе домохозяйки. Папа продолжал ездить в город на работу, а я – в школу. К счастью, путь на машине занимал не больше получаса.
Потом родились наши близнецы – мальчик и девочка. Назвали их Самир и Сари – хотели, чтобы имена были созвучные. Но, боже, как они кричали! Особенно вместе. Эти ночи без сна я не забуду никогда. Мы вставали по очереди: брали одного, чтобы второй не проснулся. Иногда я укачивала их часами. Было тяжело, но тепло.
Изменения, о которых я догадывалась, начали касаться меня вплотную. В школе я училась нормально, но были предметы, которые тянула только с помощью платных занятий. Родители старались, но с каждым разом, когда просила денег, вздыхали все тяжелее.
– Мари, а сколько тебе еще ходить туда? Ты до сих пор не догнала материал? – звучало в воздухе.
Я понимала. На папиной шее далеко не уедешь. Постепенно я бросила занятия, затем ушла и из художественной студии. Это было особенно больно. Нет, выдающимся талантом я не блистала. Но рисование давало мне воздух. Через холст я выпускала все: от света до мрака, от радости до тоски. Это был мой личный мир, где я могла мечтать, фантазировать, замечать красоту – и теряться в ней.
Но ничто не вечно под луной.
Краски поблекли. Вдохновение сменилось тишиной. А потом – пустотой. Иногда я пыталась вернуться – открыть альбом, взять в руки карандаш. Но рука дрожала, а внутри звенела только усталость.
Так я и оставила себя на тех холстах. Несовершенную. Живую. Мечтающую.
Родители не упрекали, но я уловила в их молчании облегчение. Когда пришло время выбирать профессию и поступление – выяснилось, что я совершенно не готова.
Кто решил, что после школы человек знает, чего хочет, куда идти, кем быть?
Кто внушил нам, что сразу после школы мы обязаны выбрать путь – осознанно, твердо, навсегда?
Почему этот ярлык – «определись» – въедается в сознание так крепко, будто от него зависит право на существование?
Это ложь.
Большая удобная ложь, на которой строится система.
Но правда в другом: в восемнадцать лет человек не знает, кем он хочет быть, – и не должен знать. В этом возрасте он только начинает понимать, кто он вообще такой. Он все еще выбирает – не между профессиями, а между супом и бургером на обед. Он пробует, ошибается, возвращается назад, теряется, снова ищет.
И в этом – не слабость. В этом – жизнь.
Почему нельзя дать время?
Почему нельзя позволить учиться не ради диплома, а ради понимания себя?
Почему страх «потерять год» стал важнее, чем шанс не потерять себя?
Это одно из самых глупых правил, которые навязало нам общество, – принимать решения на всю жизнь, когда ты еще даже не умеешь нормально спать ночью и не верить каждому второму совету в интернете.
И, может, самое смелое, что может сделать молодой человек – не выбрать.
А честно признаться: я пока не знаю. И пойти искать.
Вот и я не знала. И этот страх преследовал меня, не давая расслабиться.
Сомнения. Страх. Тревога.
Ты пытаешься прислушаться к себе, но слышишь только гул пустоты. Хочется нажать на паузу, вынырнуть из суеты, заглянуть внутрь – и остаться там, пока не станет ясно, куда идти. Я уже давно находилась в этом подвешенном состоянии и, устав от собственного молчания, стала прислушиваться к другим – к семье, – у которых хотя бы были какие-то версии на тему «что дальше».
Разумеется, как и в любой «нормальной» семье, все единогласно голосовали за медицину. Кто бы сомневался! Но с моими скромными баллами о докторской карьере можно было забыть – даже заглядываться было бессмысленно. В итоге под напором советов я поступила на сестринское дело. Ранг пониже, конечно, но не суть.
Ну и ладно. Предвзятости у меня не было, а вдруг понравится – кто знает? И, надо сказать, понравилось. Не то чтобы восторг – но и не через силу. Где-то внутри даже появилось ощущение, что я делаю что-то нужное, а значит – не зря.
Глава 15
Когда я училась на втором курсе, наш дом наконец достроили. Один этаж, мансарда, зеленая крыша. Простой, но уютный – такой, о каком мечталось в детстве.
Я сразу заняла мансарду. Несмотря на скошенные потолки и углы, в которых легко удариться, я видела в ней свое место. Тихое. Место, где можно было бы рисовать. Просто для себя. Для тишины. Чтобы иногда – среди детского смеха и постоянной суеты – услышать себя.
В доме было три спальни, просторная гостиная, большая кухня, которую мама наполняла запахами выпечки, пряных супов и уютных разговоров. Ванная была крошечной – но нам хватало. Бабушка с дедушкой жили совсем рядом, через калитку – как будто тыл, как будто якорь.
А я жила наверху, в мансарде, и мечтала. Мечтала о жизни, которой, возможно, никогда не будет.
Иногда казалось, что впереди – только апатия. Что все решено заранее и ничего интересного не случится. А в другие дни верилось: впереди – счастье. Открытия. Что-то важное и пока неведомое.
Как будто все, что нужно, – это немного подождать.
Чуть-чуть.
Несмотря на отцовские мечты, Дени рос тихим и замкнутым. Он будто растворялся в пространстве – такой незаметный, что иногда казалось, его и в комнате нет. У него была своя вселенная, где житейские интересы не значили почти ничего. Отец пытался его увлечь: брал на рыбалку, показывал мастерскую, делился секретами работы. Дени слушал, не спорил, но и не задавал вопросов. В конце концов отец сдался.
Он был красив: темные волосы, большие карие глаза, аккуратные черты. Но болезненно худой, что, как я догадывалась, становилось поводом для насмешек. Однажды, возвращаясь с учебы, я застала троих парней, лупящих его в траве. Я не помню, как подлетела, как разняла – только гнев в голосе:
– Вы мелкие поганцы! Как посмели тронуть моего брата?! Один на один – слабо?!
Двое зашипели от страха, третий попытался оправдаться:
– Да мы не всерьез…
– Не всерьез? Если хоть пуговица у него с рубашки оторвется – я вас из-под земли достану! Своими трусами удавлю, потом к вашим родителям пойду. Поняли?! – Они закивали. – Извиняться будете не мне, а ему. И если хоть косо посмотрите – я узнаю.
Они рассыпались в извинениях и сбежали. Дени просто кивнул. Мы пошли домой и больше к той теме не возвращались.
Иногда мне хотелось самой быть под защитой. Чтобы кто-то решал мои проблемы, заступался. Но старшим в семье не положено сдаваться. Зато можно молча страдать, пить чай баз сахара и рассказывать, как «в наше время» все было хуже. Приходилось вгрызаться, чтобы что-то получить.
Между мной и Дени всегда была особенная связь – мы понимали друг друга без слов. Могли сидеть на дереве, молча есть черешню, думая каждый о своем. А вот веселья хватало от двойняшек. Эти двое – ураган. Сари и Самир делали все вместе. Бывало, Сари пихала бабушкины протезы Самиру в рот, пока мама не заметила. В паре командовала Сари: родилась раньше и по характеру была хитрее и смелее.
– Надо было мне на девчонок делать ставку, – смеялся отец. – За себя постоят и других отмутузят.
А мама снова забеременела. Все обрадовались, особенно отец и малыши. Мы с Дени отнеслись спокойно. Я знала – буду любить нового члена семьи, но втайне думала: «А потянем ли мы еще одного?» Ведь ресурсы не бесконечны.
На втором месяце врачи предупредили: ребенок может родиться с пороком сердца. Мама не хотела и слышать об аборте – верила, что все будет хорошо. Позже подтвердили. Это требовало не одной операции. Мы понимали: морально – тяжело, финансово – катастрофа.
Отец продал мастерскую в городе, устроился у дедушки в сарае. Часть инструментов – продал. Сумма была небольшой, но времени не было. Бабушка с дедушкой расширили огород – решили продавать овощи на рынке. Я хотела подрабатывать, но мама сказала: без меня с детьми не справится. Я и сама это понимала.
Роды были тяжелые. Всю ночь я не отходила от телефона. Под утро родилась Айла – лунная девочка с дыркой в сердце и глазами небесного цвета. Даже отец пошутил:
– Не перепутали ли нам ребенка?
Оказалось, такие глаза были у прабабушки.
Операция прошла успешно. Айле поставили платиновую спираль – не панацея, но шанс на нормальную жизнь. Она росла капризной, но невероятно красивой. Даже Дени, обычно сдержанный, сам просился нянчиться.
Но радость длилась недолго. Один день. Один вдох. И все снова разрушилось.
Айла закашлялась, начала синеть. Я была рядом, уложила ее, позвала маму. Больше ничего не могла сделать. Врачи сказали: рецидив. Возможно, потребуется еще одна операция. Возможно – не одна. Сердце может не выдержать обычной нагрузки.
Страх. Паника. Беспомощность.
Как возможно принять, что человек, которого ты любишь всем сердцем, – не вечен?
******
Несмотря на удары судьбы, жизнь продолжала двигаться. Я устроилась медсестрой в городской больнице – той самой, куда мы привозили Айлу на обследования. Это было удобно: я могла быть рядом и присматривать за ней. К сожалению, операция до сих пор была недоступна – мы все еще стояли в бесконечной очереди, поддерживая ее здоровье капельницами и препаратами. Иногда казалось, что мы навсегда застряли в этой воронке безнадежности. И все же в глубине души я надеялась, что однажды шторм утихнет.
Сегодня я зашла к подруге Айзе, чтобы попрощаться перед ее отъездом. У нее был маленький магазин уличной одежды – в полуподвальном помещении в центре. Рядом она оборудовала мини-студию. Иногда я становилась моделью для ее съемок, но только без лица – это было моим единственным условием. Деньги я не брала, но Айза регулярно дарила мне кеды или худи. И мне этого было более чем достаточно.
Мы дружили с Айзой с тех времен, как она переехала в город из села. Смелая, умная, с голубыми глазами и упрямым характером – мы сразу нашли общий язык. В моменты, когда мне нужно было просто исчезнуть из реальности, я приходила в студию, и мы валялись с ней на ковре, болтая ни о чем.
Вот и сейчас – лежим на полу, наевшись роллов, а на сердце – тянущая грусть. Они с семьей едут в Германию, где ее старшая сестра вышла замуж.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



