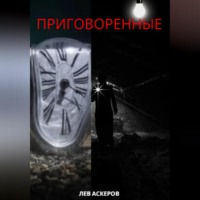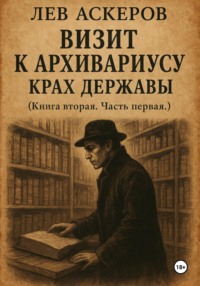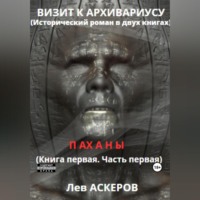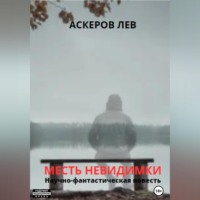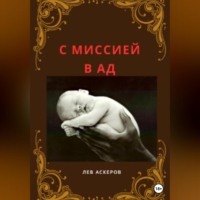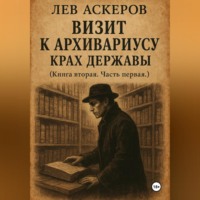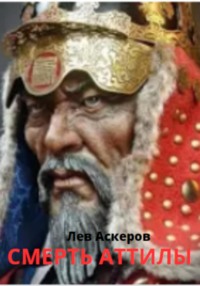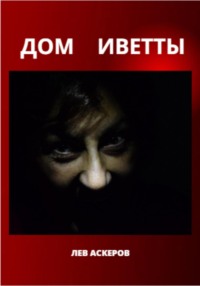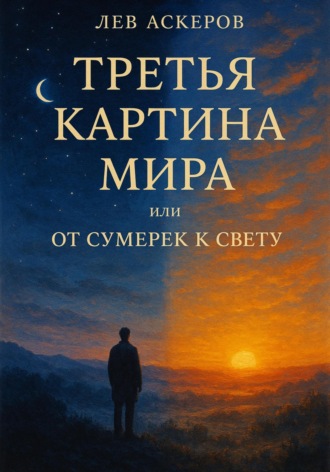
Полная версия
ТРЕТЬЯ КАРТИНА МИРА или ОТ СУМЕРЕК К СВЕТУ
С этой точкой зрения мыслителя эзотерического христианства трудно не согласиться. С одной стороны, она отвечает учению Вернадского и нашему взгляду на проблему (имеется в виду объективный процесс качественной эволюции человека в определённых условиях, путём приложения сил со стороны самого человека), а с другой, причём принципиальной, допускает роковой промах – видит реализацию своего утверждения в разработанной и порядком запутанной им схеме взаимосвязи земного бытия и космических просторов.
Философские идеи Ницше и Шопенгауэра, получили также своё развитие в творчестве Жана Поля Сартра, Мартина Хайдеггера, Карла Густава Юнга и Альберта Камю. (См. ссылки) Благодаря им, философская антропология ХХ века скатывается со своих классических высот в экзистенциальную плоскость человеческого бытия до самых её мутных вод. (Экзистенциализм от лат. Existentia – существование или философия существования отрицающая роль науки, как главного фактора общественного прогресса и ориентированной на проблемы, связанные с человеком, смыслом его бытия в современном мире).
Если для Ницше ещё признавались какие-то ценности и жизнь могла иметь смысл, то для экзистенциальной философии такого смысла уже не существовала. Жизнь абсурдна и бессмысленна, считал Ж.П.Сартр. (12) Фундаментальный опыт человечества – опыт абсурдности бытия. Главный тезис его философии «существование предшествует сущности». Это значит, что мы выброшены в мир наугад, никто не планирует нашу жизнь и Бога нет. Каждый должен сам создавать себе истины и ценности. Каждый, коль скоро он существует, выбирает собственную сущность. (13)
В числе предпосылок возникновения этого философского течения называются Первая, а затем Вторая мировые войны, принесшие бессмысленную гибель миллионов людей, бурное развитие капитализма с его жёстким прагматизмом и бездушностью. Оптимистические надежды и вера в неуклонное совершенствование человеческого разума, по мнению экзистенциалистов, не выдерживают никакой критики. Ими утверждается ущемлённость рационального, в том числе, научного мышления. К средству же познания мира они относят эмоционально окрашенную интуицию, чувство и переживания людей. Отсчёт подлинно человеческого бытия, на их взгляд, начинается с момента осознания необходимости выхода за пределы обыденности, где правит бал самодовольная серость, а всё личное, лишь маска.
Величие человека, экзистенциалисты, в лице Сартра, Камю и Ортеги-Гассета видят в способности людей к бунту, в мужестве осуществлять свои личные проекты, вопреки общепринятым нормам и смелость брать на себя ответственность за свободу выбора. Быть личностью, настаивают они, значит отважиться на действия, которые несовместимы с житейской целесообразностью и обострённым инстинктом самосохранения. Неприкрашенные макияжем иллюзорности реалии жизни, для человека довольно тяжка (ведь люди существуют в обществе в условиях порицаний и одобрений окружающих), однако он способен на попытку вынести осознание собственной свободы, на подлинное величие духа на пределе человеческих сил.
Тут явно превалирует не научная направленность их взглядов, которые объясняли бы философию проблемы антропогенеза, а теория идеологических приоритетов. Более чёткая линия антропологических вопросов просматривается в трудах Мартина Хайдеггера. Он смог свести её к фундаментальной проблеме бытия – онтологической.
Человек, по Хайдеггеру, есть путь к бытию, поэтому он называет его «Dasein»(«Здесь бытие»), то есть, место, где бытие осознаёт само себя. Правда, в качестве средств описания и его толкования, философ обращается не к категориям объективности, признаваемой наукой, а к субъективным – эмоционально окрашенным понятиям экзистенциалов. А потому под основным экзистенциалом Хайдеггера «бытие в мире» имеется в виду то, что существование человека и мира неотделимы друг от друга. Человек всегда в мире, и мир – это мир человека (14).
Из всего выходило, что лишённые веры в вездесущие силы Всевышнего, одинокие и без надежды на уготованный им потусторонний рай, люди становятся ещё более одержимыми жаждой обладания сверхчеловеческими качествами, не признающими мораль и нравственность и начинают тяготеть к идеям выдвинутым Фридрихом Ницше. Вспомните слова Адольфа Гитлера, которые он не раз произносил в публичных своих выступлениях и занёс в свой, по существу, короновавший ницшеанство труд, «Майн кампф»: «Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью!»…
Казалось бы, тупик. Казалось, что в разных вариациях исследований Картины философского миропонимания, ницшеанство является вроде той идеи, к которой ведут все пути. Признаться, забегая вперёд, скажем: резонность такого вывода в некотором роде имеет место быть. Но лишь в «некотором роде» и лишь в тех условиях, когда разумная особь, находится в глухом духовном кризисе, не видящем, в тоннеле своих поисков, заветного света – света понимания жизни. Вместо него, пугающая человека мгла пустоты. А пустота – дама, которая не любит и не хочет быть одинокой и бесплодной. Она для самодостаточности втягивает в своё лоно, лежащее рядом, в среде Времени всё, что ей предлагается её пределах. Всё без разбора. Вкус для дамы под именем Пустота – чужд.
Вспомните с чего мы начинали сей наш труд. Да, с провозглашённой Ньютоном научной Картины мира, представлявшаяся ему, «пустое» пространство безвременья. Наблюдательный и точный в выражениях Паскаль нарёк его «миром пустого безмолвия». Щопенгауэр пошёл дальше. Назвал живое существо Земли «плесенью», случайно покрывшей нашу планету…
Однако вернёмся к нашей мысли об устроенном Ницше тупике, вставшей стеной перед подлинным пониманием Мироздания и человечества в нём, которому отписал всего две роли – сверх люди и рабы. Эти роли, искусно доказывал он, обусловлены объективными влияющими функциями миров на все сущее, проживающее на Земле и, прежде всего, на хомо-сапиенса. Его пытались и, в определённой степени, небезуспешно развенчать такие яркие личности философии, как Карл Густав Юнг и, упомянутый нами, Георгий Гурджиев.
Кстати, аналитические выкладки Юнга, в теории современной антропологии, одни из самых захватывающих и интересных. Практически все области гуманитарного толка, как нам, в процессе работы над настоящим трактатом, удалось выявить, испытали на себе силу её энергетики. Скажем больше, их философская значимость отмечена и теперь берётся во внимание в практике научно-технического творчества – открытий, изобретений и предложений новых, оригинальных решений.
Заметим: появление философии Юнга не было внезапным. Оно оказалось подготовленным парадигмами работ предшествующих научных исканий. Тот же самый, разрабатываемый ранее, как доминирующий фактор, принцип антропологического рационализма. Человек, его мотивы поведения и возникающие ситуации, чреватые теми или иными реакциями на них и событиями вплоть до глобальных, рассматривались только как проявление сознательной жизни. Всем, положим, известен тезис – «Мыслю, следовательно существую» или «Пока дышу, надеюсь» (15) В соответствии с этими установками человек выступал только как «человек разумный». Но постепенно в области познания человека всё большее место стало занимать проблема бессознательного фактора. Того, что скрупулёзно рассматривались Готфридом Лейбницом, Иммануилом Кантом, Артуром Шопенгауэром и другими. Все они с разных сторон и позиций осмысляли роль и значение, не осознающихся человеком, психических процессов.
Тема бессознательного затрагивалась не только философами, физиологами, психологами, психиатрами, но и литераторами. Гёте отмечал, что человек не может подолгу оставаться в сознании, он должен иногда оказываться в состоянии бессознательности, ибо там живы его корни. (16) Приверженцы романтизма, да и затем реализма, в том числе, и в некоторых произведениях (в основном фантастических) писали о неосознаваемых глубинах души… И философия Карла Густава Юнга вытекала из всего этого и легла в фундамент его теории, ставшей для нас стереотипом, названным, самим мыслителем, САМОСТЬЮ.
Описывая единую трёхуровневую структуру психики Юнг выделил из неё самое глубинное – коллективное бессознательное. На этом уровне заложен определённый набор архетипов, в котором главная роль принадлежит архетипу субъекта – его самости. Этот центральный архетип несет в себе идею целостной личности. Наше сознание изначально не отделено от своих бессознательных истоков, но, затем, ориентируясь и адаптируясь к внешнему миру, оно стало отделяться от своей бессознательной основы и привело к разрыву этой целостности. Однако, бессознательное функционирует на протяжении всей нашей жизни. Кроме того, оно скрытно корректирует отклонения сознания от данного им курса. То есть наше бессознательное задаёт нам путь и следит, чтобы мы с него не сбились. Если мы сбились, так сказать, перестали слушать и понимать бессознательное, то оно начинает действовать и подспудно и неуклонно заставляет держаться того пути, что был заложен в нас и задан нам изначально. В этом, согласно Юнгу, заключена суть процесса индивидуализации или изменения интенциональности, так сказать, естественно личной установки сознания от внешнего мира к внутреннему. То есть, к присущему каждому субъекту, глубинному центру. Вся эта, выявленная философом архетипическая модель проявляется на эмпирическом уровне в виде проекций и символических образов, как в сновидениях, так и в возникающих реальных ситуациях.
Итак, Юнг предположил, что существует определённая, наследуемая структура психической реальности, развивающейся сотни тысяч лет, имя которым – архетипы. Они влияют, на наши мысли, чувства, поступки и заставляют переживать и реализовывать жизненный опыт вполне определённым образом.
В аналитической психологии Юнга, как и в психоанализе Фрейда, сознание, представляемое нами непременным условием существования человека, оказывается лишь верхушкой айсберга. Верхушки, содержащей в себе более обширный пласт забытых или подавленных личных воспоминаний, чувств и поведенческих форм.
Если Фрейд называл этот пласт бессознательным, а Юнг – личным или коллективным бессознательным, то мы, в своём трактате, этот фактор называем личным полем Времени разумных существ (людей), в понятие которого, вкладывается принципиально новое объяснение и смысл. К слову сказать, Юнг, формулируя личное или коллективное бессознательное, писал, что чем глубже погружаешься в психическую реальность человека, тем больше обнаруживаешь в нём имеющиеся материальные и духовные следы некоего «психического поля» или первосубстанции. (17)
Естественные науки также отмечают, что мы храним в себе историю нашей эволюции в физиологическом становлении, вообще и, в содержательности нашей внутренней нейроструктуры, в частности. Человеческий зародыш проходит в своём развитии весь эволюционный путь от простейших до млекопитающих. Кашалоты миллионы лет назад ушли в пучины вод и утратили сходство с обитателями суши, но один кашалот из десятков тысяч и сегодня рождается с зачатками лап (ног).
Вид бережёт, знает и помнит своё прошлое. Он помнит и знает, как помнят и знают свою историю кристаллы, горы, Земля и само Мироздание. Вид обладает генетической памятью, то есть, своего рода знанием. Подчеркнём – знанием, но не сознанием. Иначе говоря, он не знает того, что знает. Поэтому, оперируя понятием «бессознательное» Юнг, обращает внимание на влияние на нашу жизнь иных факторов, нежели сознание. Он предпочитал их обозначать как «неизвестное психическое». Вот что по этому поводу им было написано в работе «О природе психе»: «Бессознательное – не просто неизвестное, это, скорее всего, неизвестное психическое»…(18)
Здесь мы позволим себе сделать коротенькое отступление, подробности которого и аргументы, говорящие в пользу него, читатель найдёт в содержании этого трактата. Источником, обнаруженного Юнгом «неизвестного психического» является не сама психика человека, а механизм её устроенности, который под влияющим воздействием внешнего фактора, а именно структуры Пространства-Времени Вселенной и людей, воспринимает и, реагируя на них, отражает поступивший сигнал в выражениях конкретных физических и умственных проявлений.(19) Не увязывая своё «неизвестное психическое» с воздействием на психофизиологию человека внешнего фактора, а именно структуры Пространства-Времени Вселенной и людей, сам философ, тем не менее, указывал на некую иную силу, делающую бессознательное осознанностью. «Между «я делаю это» и «я осознанно делаю это»,– писал Юнг, – бездна несоответствий, иногда вплоть до явных противоречий. Стало быть, существует сознание, в котором преобладает бессознательное, равно, как и сознание, в котором господствует осознанное «я».
В сознании нет такого содержания, о котором можно было бы сказать, что оно всецело осознанно. В противном случае, это предполагало бы немыслимую полноту и совершенство человеческого разума. Или, иначе говоря, нет такого сознательного содержания, которое в то же время, в каком-то другом отношении, не было бы бессознательным».
В отличие от Юнга другой известный мыслитель прошлого века Георгий Гурджиев, рассматривая парадигму существования человека, утверждал, что основополагающим в философии антропологии является связь разумного существа и Вселенной. Этим своим выводом он в некоторой степени близок к изложенному Вернадским философскому видению роли живого вещества на Земле и в Космосе, и рядом своихутверждений отвечает нашей концепции.
Вникая в смысл человеческой жизни и природу человека, Гурджиев приходит к выводу, что его изучение невозможно без познания Вселенной. Точно также, как невозможно изучать Вселенную, не изучая Хомо Сапиенса. Через всю его теорию, красной нитью, проходит утверждающий тезис – «Человек – это подобие мира».(20) Следует заметить. Означенное понимание, отражающее принцип универсальной взаимозависимости космоса и человека, исследователь почерпнул из источников многих духовных и религиозных деятелей (герметизм, гностицизм, неоплатонизм, христианство, брахманизм, каббала и т. д.). Несмотря на открытость всех этих трудов, Гурджиев, пожалуй, один из немногих учёных, которого осенила идея создания своей философской доктрины. Как признавался он сам, она возникла у него по схеме сформулированной Карлом Юнгом, то есть, под воздействием аргумента о существовании, некоей, иной силы, делающей бессознательное осознанностью. (21)
Свою точку зрения философ обосновывает тем, что человек был создан по тем же законам, по которым создан мир в целом. Поэтому, познавая и понимая себя, он будет познавать и понимать весь мир, все законы, которые творят мир и управляют им. В то же время, изучая Вселенную и законы, управляющую ей, человек узнает и поймёт законы, что руководят самим человеком. В связи с этим Гурджиев замечает: некоторые законы легче понять и усвоить благодаря изучению объективного мира, когда, как другие, можно понять, только изучая себя. Следовательно, изучение мира должно идти параллельно изучению человека. Одно будет помогать другому. Именно эта логика и раскрытие сути общих законов для космоса и человека и легли в основу антропологической доктрины Гурджиева, ставшей своеобразной доктриной «русского мистицизма» начала ХХ века, представляющего из себя мешанину элементов и идей йоги, суфизма, тантризма, теософии и христианства… (22)
Утверждение того, что познание человека и человечества Земли лежит в пространстве окружающих его миров – не ново. Новое в этом деле, на наш убеждённый взгляд, должно быть то, что не столько умозрительным образом определяет, а сколько указывает на рычаги такого познания. Те, что реально должны вывести нас к подлинной разумности и совершенству. В доктрине же Гурджиева, они носят, к сожалению, декларативный характер и сводятся к следующим выводам:
«1. О децентрированном космосе и взаимосвязи и единстве макро- и микро-уровней.
2. О душе и разных уровнях смысловых полей существования отдельных и несовместимых друг с другом «Я» («Самостями») и движению к высшей «Самости» – к неделимому «Я».
3. О движении к сущности как усилии, предполагающее самонаблюдение, освобождение из-под множества влияний законов внешнего мира, телесные практики, искусство изменения и влияния «поз» и «стиля» на мысли». (20;21)
Впрочем, в философских теориях других мыслителей, от Шопенгауэра и Ницше вплоть до первой четверти ХХ века, творивших в рамках провозглашённой Ньютоном научной картины мира, грешили этим недостатком – умозрительной декларативностью.
Тут мы не можем не оговориться об исключениях и не вычленить из всей плеяды мыслителей Карла Густава Юнга, являющегося профессиональным психиатром и, определившим в этом ракурсе, конструкцию бессознательных и сознательных параметров человека, реагирующих на воздействие некоей иной, внешней силы. Но речь сейчас идёт не об исключениях, а о том, что в каждом труде философов, рассматривавших проблему антропогенеза, имелись крупицы исключительно ярких великих идей, положений и мыслей, высвечивающих путь к другой, Второй Научной Картины Мира, созданной гением Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945 гг.).
С титаническим упорством и скрупулёзностью, осуществив селекцию из хаотичной россыпи драгоценных зёрен, содержащихся в работах выдающихся предшественников и современников, а также основываясь на своих монографических исследованиях в разных отраслях науки и практики, Вернадскому удалось выйти на ту самую Вторую, наиболее реальную и конкретную научную картину мира принципиально отличающуюся от ньютоновской. (выделено – Л.А.)
Он первый, кто связал эволюцию живого вещества и эволюцию окружающей среды, со всем разнообразием взаимодействующих механизмов. Он же был первым, кто выдвинул положение о том, что в настоящее время человек – основной геологообразующий фактор биосферы. Что касается последнего, мы считаем уместным привести выдержку из его блистательного труда «Биосфера и ноосфера».
«…Если мы говорим, что строим своё миропонимание научно…– это значит, что мы исходим из следующих положений, которые имеют характер аксиом:
(Но прежде чем приступить к перечислению этих аксиом, мы считаем необходимым сопроводить их комментарием самого академика. Он вывел их ещё в 30-х годах ХХ века. – Л.А.)
1. Мы ограничены в наших представлениях научной работой прошлых поколений, в рамках, которой, мы неизбежно идём, на которую, опираемся и корни, которой, идут в десятки тысяч лет в глубь от нашей жизни.
С каждым поколением эта зависимость от прошлого упрочняется и логически уточняется. За самые последние поколения мы явно входим в критический период усиления этого процесса, и научная работа становится проявлением геологической работы человечества, создающей особое состояние геологической оболочки – биосферы, где сосредоточено живое существо планеты. И когда биосфера переходит в новое состояние – ноосферу.
2. Ясным и, как бы, стихийным является для нас такой неожиданный, по сути, результат научной работы поколений. Он не зависит от воли отдельного исследователя и быстро растёт в своей интенсивности с ходом Времени.
Мы ясно видим (так стихийно, что это не требует от нас доказательств), что переживаемое нами состояние научного знания подготовлялось миллиардами лет бессознательного эволюционного процесса живого вещества биосферы. Эта неразрывная связь с прошлыми поколениями всё больше увеличивается, укрепляется и усложняется. Врождённая в нас, она становится всё более глубокой и, от нашего волевого проявления, независимой. Это данный нам природный субстрат нашего мышления». (23)
Биосфера, по утверждению В. Вернадского, есть область распространения живого вещества на планете Земля, которое по своей массе и объёму подавляется веществом неорганическим, «мёртвым» (по выражению Вернадского – «косным»). Но это только на первый взгляд. На самом деле многокилометровые толщи горных пород и другие напластования Земли вовсе не безжизненны. Многие из них – это области былых биосфер (сюда относится и дно Тихого океана). Но главное даже не в этом. Главное в том, что живое существо, при всей своей «малости», содержит и концентрирует в себе огромные, колоссальные запасы космической энергии. По сути, всё живое существо и все его жизненные отправления – суть этой трансформированной энергии. И космическая энергия, осуществляемая через Солнце – это и сам хомо-сапиенс, и созданная им культура.
Космос, через светила вселенных и прежде всего Солнца «заряжают» вещество огромной силой. Той, что передаётся из организма в среду его обитания миграцией атомов, осуществляемой: а). в процессе питания и дыхания (первый вид); б). в процессе размножения (второй вид миграции). Имеется и третий её вид. У животных он имеет подчинённое значение, но у человека становится ведущим, названной учёным техногенной миграцией, связанной с созидательной, инженерной деятельностью живых существ… Медведь роет берлогу, птица вьёт гнёзда, пауки – паутину, пчёлы – соты. Да, работа у них инстинктивная, не творческая, но суммарный эффект от неё значителен. Несравним, несопоставим с ней труд человека, создающего культурные ценности. Он разумен и разумно целенаправлен…
И тут мы позволим себе сделать небольшой, но весьма важный экскурс, в ставшие достоянием наших знаний, проведённые в течение первой половины ХХ-го и начала ХХ1 веков, исследования и их выводы, отвечающие поднятой нами тематике. Но прежде попытаемся ответить на пару возникающих вопросов. Ответ на них, на наш взгляд, так или иначе, выведет на, предлагаемую нами, Третью Картину Мира.
Так ли уж несопоставим и несравним труд людей с трудом иных живых существ Земли? Да, замкнутая на себя деятельность особей животного ареала, выражаемая в осуществлении инженерного обустройства своего пространства бытия, на наш взгляд, примитивна и диктуется, заложенным в них природой инстинктом. А можем ли мы, со стопроцентной уверенностью, утверждать, что зоологическая и созидательная деятельность человека, якобы, независимое ни от чего и ни от кого, лишь производное его разума? Или же утверждать стихийную самопроизвольность происходящих в нашем Доме социальных, биологических, климатологических, геологических и множеств иных процессов? Заметим: процессов, содержащих в себе, узнаваемую целесообразность закономерностей…
Между тем, животным, которым мы отказываем в том разуме каким обладаем сами, вероятно, также могут полагать, что делают всё, как и существа, наречённые homo sapiens, независимо ни от чего и, разумеется, осмысленно. И хотим мы того или нет, нас, подспудно, гложет мысль: не может ли оно, наше восприятие окружающего, являться производным, от помещённого в нас сгустка энергии, определяющего и наше существования, и понимание представляемого нам видения окружающего, и, вытекающие из этого понимания, реакции и конкретные действия? Не она ли и есть тот самый инстинкт особого порядка, вживлённый в нас из вне, по которому нам, равно как и животным, кажется, что мы самостоятельно и разумно видим окружающее и соответственно ему, мыслим и действуем?
В связи с этим мы полагаем, что рано или поздно, хотим мы того или нет (а этого не можем не хотеть), человек, всё-таки, сможет завязать контакт с источниками энергии, которые позволили бы ему, подняв себя, окончательно утвердить своё, человеческое, действительно разумное, присутствие в этом мире, либо, напротив, стереть с лица Земли все следы созданной им цивилизации и себя. Но даже если это,, противное нам, ,произойдёт, последнее, биосфера и ноосфера, как существовали, так и будут существовать, чтобы начать всё сызнова. И это начнёт происходить, как происходило и в прошлом, в силу внедрённых в биосферу энергетических воздействий.
Правда, такой поворот событий, как мы знаем, на Земле уже имел место быть и неоднократно, наводит нас на мысль, что наше Бытие – это механизм Высшего разума по естественному отбору достойных проживать в среде Его обитания. Именно в Его Пространстве.
Идея, понятие и функционирование биосферы с подчинительной ей субстанцией ноосферой, по утверждению Вернадского давно «витала в воздухе». А о разуме, как о высшем регулятиве жизни говорили ещё древние философы (само слово ум – нус, ноос – принадлежит учителю Сократа – Анаксагору). (22)
В новое и новейшее Время о ноосфере заговорили вновь.
Ноосфера – не простое образование в биосфере. Согласно Вернадскому, она, находясь в купе с другими, выступает с ними, как единое целое. Ведь, как известно, и принято считать, облик планетных преобразований происходит по воле одного биологического вида – Хомо сапиенса. Это при том, что на Земле одновременно существуют миллионы видов. Человечество не только фактически становится единым целым, но и осознаёт себя таковым. Именно на этой глобальной волне социального и духовного подъёма рождалась и укреплялась мысль о ноосфере в умах известных учёных и философов – Тейяра де Шардена, Ле Руа, Николая Фёдорова, Константина Циолковского.(См. ссылки)