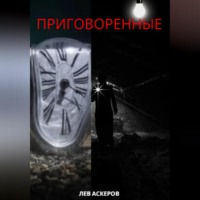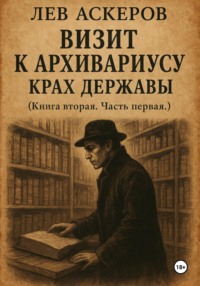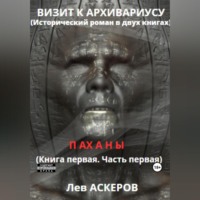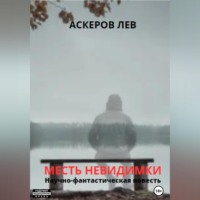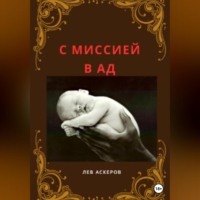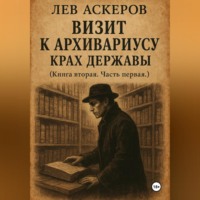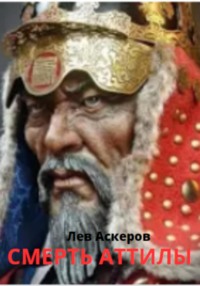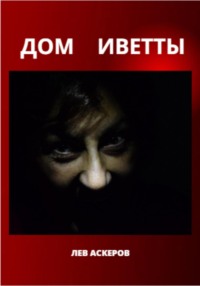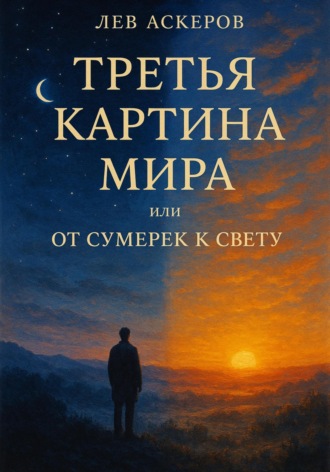
Полная версия
ТРЕТЬЯ КАРТИНА МИРА или ОТ СУМЕРЕК К СВЕТУ
Весь ХХ и начало ХХ1 веков, выдающиеся представители мирового научного сообщества, своими оригинальными разработками и открытиями в разных сферах научной деятельности, хотели они того или нет, замыкались на проблему генезиса Миров, Вселенной и Человечества. Это великий Альберт Эйнштейн, астрофизик Николай Козырев, физиолог и создатель теории функциональных систем, академик Петр Анохин, профессор химии Нажип Валитов, современное и яркое явление математик Григорий Перельман и создатель квантовой генетики, академик РАЕН и член Нью-Йорской Академии наук Пётр Гаряев, крупнейший нейрофизиолог и лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Экклс, нейрофизиолог и всемирнопризнанный исследователь мозга Наталья Бехтерева, Нобелевские лауреаты по нейрофизиологии Дэвид Хьюбел и Торстен Визел, известные исследователи Альбе рт Вейник, Георг Зиммель, Анри Бергсон, Татьяна Черниговская… Их, поражающая воображение, философия, конкретные работы и практическая деятельность брала начало от истока, заложенного мыслителями древности и известными философами сравнительно недавнего прошлого.
Достаточно вспомнить духовных авторитетов того минувшего Времени – Блаватскую, Штайнер, Кайзерлинга, Гурджиева… Помимо них имена таких гигантов, как Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, Карл Юнг, Александр Введенский, Тейяр де Шарден, Роман Махариши…
И как не вспомнить ярчайших предтечей означенной проблемы– Исаака Ньютона, Иммануила Канта, Блеза Паскаля, Михаила Ломоносова, Иоганна Гёте, Дмитрия Менделеева и немногих ещё других.
Все они производное вызовов своего Времени, наглядно проиллюстрировавших, вышедшими из-под их пера, блистательным работами, реально сдвинувшими духовную жизнь мыслящего сообщества планеты.
Это первое.
А второе, как нам представляется, гораздо интересней, значительней и важней. Ибо оно с настойчивой прозрачностью намекает на первопричину тех изнурительных реалий, что во все времена возникали в человеческом сообществе.
В самые разные и непростые времена, философов и людей, озадаченных проникновением в смысл Мироздания, было много. Однако, выйти на, более или менее, правильное толкование его, указав, на первоисточник, было – Увы! – мало. Всего лишь единицы. Спрашивается: почему? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности – зависит от широты разумности и проникновения в суть вещей. Почему же тогда у одних, причем, ничтожного меньшинства, таковые способности имели место быть, а у других, составляющих преобладающую массу, подобные возможности отсутствовали.
А всё-таки – ОТСУТСТВОВАЛИ или были НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?..
Мы склоняемся к последнему, однозначно утверждающему на врождённый порок разума самой мыслящей особи Земли. В принципе оно так и выглядит. И тут одно из двух: либо врожденность названного порока физиологический нонсенс природы, либо кем-то обдуманно устроенная обреченность, о стену которой, на протяжении всей истории своего существования человечество бьётся головой.
Основываясь на исследованиях и гипотезах мыслителей далёкого и близкого прошлого, в которых просматриваются довольно внятные следы поисков истины, мы, как и наши предки, подталкиваемые факторами не лучших процессов своего Времени, с уверенностью отдаём предпочтение второму варианту. Да, стена имеет место быть. Но в ней ещё имеет место быть дверь. Ту, что мы в упор не видим и не хотим видеть. Однако, обнаружив и, открыв её, человечество получит реальную возможность избавить себя от бед и напастей, происходящих по его же вине.
Та дверь и ключ от неё в наших руках. Мы держит его со дня сотворения мира. Правда, не совсем в руках. Будь этот ключ в нашем распоряжении, мы давно бы выбросили его, как не нужную вещь,
Эта заветная отмычка находится не за семью печатями, а в самом человеке. Стало быть, избавиться от неё – значит, избавиться от самого себя. Более того, человек может и догадываться о местонахождении той двери, для которой тот, беспокоящий его, ключ, предназначен. Но вся правда в том, что, дающая о себе знать сущность, находящаяся в мыслящей особи и, названная нами, «ключом», бередит человечество лишь на чувственном, эмоциональном уровне. Из мыслящей популяции Земли, всего единицы, своими, зачастую, режущими слух трудами, так или иначе, но воздействуют на самое консервативное в человечестве. На его эмоциональную составляющую, помещённую в жёсткие рамки официальных научных посылов, поощряемых государственными институтами.
Указывая на срез этого вопроса, виднейший представитель философской антропологии ХХ века Макс Шелер, ещё в 1928 году, резонно заметил: «За последние десять тысяч лет истории,– пишет он,– наша эпоха – первая, когда человек стал очень проблематичен. Он больше не знает, что он такое, но в то же Время знает, что он этого не знает».(1)
Эта, утверждаемая им мысль, чётко прослеживается, в его, блистательно аргументированной работе «Положение человека в космосе», увидевшая свет в 1928 году. А время 20-х годов, как известно, было весьма и весьма беспокойным. Происходившие тогда, социально-экономические потрясения, не могли не волновать мыслителя. Первая мировая война, революционные волнения в Германии, России и т.д. В них, в тех процессах, Шеллер видел кризис Человечества в вопросе понимания самого себя. И потому свои исследования он сводил к самому основополагающему – изучению проблемы человека, положившей начало философской антропологии.
Вопрос – «что есть человек?», – как известно, был поставлен ещё Кантом, намеревавшемся ответить на него в очередном своём трактате. Но, то ли не успел, то ли не смог. Шелеру же, в закладываемых им основах философской антропологии – удалось. Современная философия, по его твёрдому убеждению, не могла не ответить на этот вопрос, поскольку, незнание сущности человека, приводила и приводит людские сообщества к катастрофическим кризисам.
Мысль философа проста. Кризис общества – кризис человека. Кризис личности. Причинность, которых, учёный видел, лежащими в створе, как неправильного подхода к познанию и, далеких от совершенства, порядков в Науке. (1;2) И Шелер выстраивает структурную схему из чего должно состоять познание. Это естественные науки, науки о культуре (в том числе философия) и, наконец, учение о спасении, т.е. религия. ( курсив авт.) Главное познать человека в клубке знаний всех трёх наук – естественно-научном, философском и религиозном.
Что касается последнего, мы отдаём предпочтение не многозначно искажённым посылам верований, а конкретному и точному по смыслу термину – ДУХОВНОСТИ. И тогда утверждение Шелера – «человек вещь столь обширная, что он превосходит любое его определение и любую науку» – становится гораздо убедительней. Таким образом, познание человека, в исследованиях мыслителя, становится главной проблемой. Он ставит вопрос ребром. «Либо философия занимается человеком, либо она вообще ничем не должна заниматься». (1;2)
Кризис современного общества, мало чем отличающийся от подобных кризисов далёкого прошлого, периода жития Шелера и нашего настоящего, вновь и вновь, выдвигает на первый план, основополагающую проблему – познание человека. Ныне, она, ещё более актуализировалась и приобрела, высокую степень настоятельности, глубокую значимость и необходимость решить её. Ибо, как, справедливо, считают современные мыслители различных сфер научной деятельности, решение её может вывести на путь действительного, а не мнимого совершенствования человека и человечества. Того, что однозначно ответило бы, имеющим место быть, вызовам неотъемлемого от космического миропорядка, людского бытия.
Одной из важнейших причин создавшейся на рубеже ХIХ- начала ХХ столетий ситуации, приведшей к возникновению духовного кризиса, стало широкое и, внешне, успешное использование, в продвинутых цивилизациях, рационального подхода для определения места человека в мире.
Согласитесь, очень похожая картина сложилась и сейчас в последних десятилетиях ХХ-го и первых десятилетиях ХХ1 веков. Особенно она чувствительной была для проживающих на постсоветском пространстве. Длительное воздействие режима коммунистической формации, отличавшейся двумя, казалось бы, несовместимыми факторами – тоталитаризмом, с одной стороны, и социальной защищённостью – с другой, оставили в людях довольно глубокий след. И, отнюдь, совсем не негативный.
Хотя, условия того диктата, изолировавшего народы СССР от необходимых приоритетов социальных факторов и от мирового научного сообщества, образовали значительные бреши в области мировозренческих знаний. А вот радикально изменившиеся, для огромной массы людей социалистической системы, условия социальных приоритетов, превосходящих капиталистические, породили острую потребность философского переосмысления проблемы человека.
Возможно, это прозвучит амбициозно, но мы, своим трактатом, полны намерения, продемонстрировать причинность того, что, как правило, сопутствует мучительному процессу поступательного развития Человека и Человечества. Попытаемся, со всей наглядностью, показать ту самую сущность, к которой почти вплотную подошли Шелер, Вернадский, Введенский, Войно-Ясенецкий, Козырев, Гаряев, Валитов, Перельман, Анохин, Черниговская, Джон Экклс и другие. Все они, вместе взятые, открывали её с разных сторон своих глубочайших исследований. Оставалось назвать лишь механизм функционирования той сущности, дабы, на понятном ей языке, завязать с ней диалог. Что мы и попытаемся сделать.
Пути выхода из бесчисленного множества пониманий себя в нашем мире, нам видится в двух направлениях. Это новые оригинальные разработки, предназначенные для решения антропологических проблем, и опора на имеющийся мировой опыт. Думается, что первой задачей должна стать работа по созданию конструктивно понятной и целостной концепции человека, которая должна будет включить в себя разработку ряда внятных объяснений и оснований самого феномена человеческого бытия и загадки появления самого Хомо сапиенса – человека разумного. Для этого настоятельно требуется (оно, кстати, уже имеет свои проявления) возродить изучение «старых» духовных традиций и формирование новых учений, ориентированных на совершенствование и гармонизацию человека.
Абсолютизация рационализма и расчёт на ratio, как отличительной особенности людей привела к жёсткому подавлению научных теорий и гипотез, рассматривавших отношения оси взаимосвязи человека и вселенной с интуитивно-мистического ракурса. Это не могло не привести к десакрализации жизненного пространства. (4) В обиходе, создавшееся положение вынудило массы людей искать ответы на свои, возникающие у них, на инстинктивно-интуитивном уровне вопросы, не в науке, а в тёмных «подвалах» доморощенных провидцев, прорицателей, магов и колдунов. В научном же плане, огромный, богатейший пласт трудов мыслителей прошлого, по кругу означенной проблемы, был опущен до уровня религиозного невежества и заблуждений, к которым припечатали ярлык с уничтожающими, как приговор, словами: «мистик», «богоискатель», «фантаст»…
Если интуицию считать продуктом мистики, то объективно половина человечества, если не большая его часть, страдает этим «недугом». Во всяком случае, великие Исаак Ньютон, Владимир Вернадский, Иван Павлов, клан учёных Бехтеревых, Эдуард Циолковский, Роберт Оппенгеймер, Пётр Капица, Лев Ландау и многие-многие другие по их же высказываниям, были мистиками. (В этом, по мере погружения в содержание трактата, вы убедитесь сами). Их к открытиям подводила именно загадочная интуитивность. Та самая, что породила известное и, ставшее нарицательным, восклицание «Эврика!», брошенное в мир ещё до нашей эры греческим математиком и инженером Архимедом, когда он открыл основной закон гидростатики. Та самая, которую армия скептиков по своим убеждениям не только превратно истолкуют эти интуитивные импульсы, непостижимым образом возникающие, в ходе исследований, у творческих людей, но и станут категорически игнорировать и принуждать соглашаться с их мнением.
Понимание очевидного и неочевидного, как отмечалось выше, у всех разное. Оно многогранно и противоречиво. Так, например, известный мыслитель и мистик ХХ века Георгий Гурджиев объяснял многоликость понимания, следующим образом:
«Понимание – это сущность, приобретённая из сведений, преднамеренно выученных. И из всевозможных опытов, лично пережитых. К примеру, если бы сейчас ко мне пришёл мой любимый брат и попросил поделиться с ним хотя бы десятой долей моего понимания, то, как бы я ни жаждал помочь ему, я не дал бы ему и тысячной доли того, что он просит. Я ничего не смог бы для него сделать, так как у него нет ни знаний, ни опыта, которые я довольно случайно приобрёл за свою долгую жизнь.
Понимание – следствие всей намеренно полученной информации и личного опыта, тогда, как знание – есть всего лишь автоматическая последовательность слов в предложении. Совершенно невозможно, даже при самом страстном желании, передать кому-либо собственное внутреннее понимание, сформировавшееся в процессе жизни в результате вышеуказанных факторов; и кроме того, как я недавно установил… существует закон, согласно которому, когда один человек что-то говорит другому – либо для его познания, либо для его понимания, суть того, что воспринимается, зависит от сути самого говорящего.
…Только понимание,– утверждает Гурджиев,– может привести к сущности. Знание же – это всего лишь преходящее присутствие в нём. Новое знание сменяет старое, итогом чего становится переливание из пустого в порожнее. Человек должен стяжать понимание, оно одно способно привести к Богу. А чтобы быть способным понять некие природные феномены, согласующиеся или не согласующиеся с законом, следует, прежде всего, сознательно воспринять и впитать сведения об объективной истине и реальных событиях, происходивших на Земле в прошлом, а во-вторых, необходимо усвоить все результаты различных произвольных и непроизвольных опытов». (5)
Есть и другие варианты объяснений загадок понимания и не понимания тех или иных вещей, которые наблюдаются в повседневно-бытовых и профессиональных межлюдских контактах. Они вполне естественны, поскольку, заложены, так сказать, природой в мыслительный аппарат человека, индивидуальность которого порождает пестроту разнообразий точек зрения и позиций.
Однако данное Г. Гурджиевым объяснение этого фактора, и ссылка на им замеченный некий закон, по которому тот, кто «говорит другому – либо для его познания, либо для его понимания, суть того, что воспринимается, зависит от сути самого говорящего» (подчёркнуто автором) – не совсем убедительно и, вероятней всего, может касаться какого-либо отдельного, частного случая. Расплывчато звучит и его формулировка ПОНИМАНИЯ, являющейся по мнению Гурджиева «следствием намеренно (подчёркнуто автором) полученной информации и личного опыта.
Под намеренным получением информации, очевидно, следует понимать почерпнутые им знания из учебников и иных источников, которые должны и не могут не соответствовать личному опыту и наблюдениям. А если увиденное и пережитое не вмещается в границы усвоенного, что тогда? Оно ложно и ничтожно потому что непонятно?!.. Почему?!.. Оно же есть и существует. Эту сторону вопроса Гурджиев обходит молчанием. Он не в состоянии ответить на него потому, что его утверждение слишком заземлено и топчется у порога трёх закрытых дверей, за двумя из которых лежат тоже всем известные научно аргументированные и признанные два концептуальных взгляда на картину мира – Исаака Ньютона и Владимира Ивановича Вернадского.
Что касается третьей и новейшей двери, за ней мы расположили своё представление Картины Миропонимания, стартовой площадкой для которой стали учения Владимира Вернадского о ноосферической составляющей биосферы и волнового генома нашего современника Петра Гаряева. В свете их взглядов на мир и человека, как вы далее убедитесь,утверждение Гурджиева – суть того, что воспринимается, зависит от сути самого говорящего – не совсем, а точней, совсем не точна.
Опираясь на выведенные положения Вернадского-Гаряева и наши собственные наблюдения, мы утверждаем, что понимание в любом общении двух субъектов или одного с той или иной аудиторией, зависит от обоюдной сути наших объектов. Как говорящего (выступающего), так и слушающего (слушателя). Доминанта говорящего, если, конечно, речь идёт не о гипнотическом сеансе, отнюдь, не правило о чём свидетельствует многозначность реакций на одну и ту же излагаемую, либо, произносимую мысль. И дело тут не в просвещенной подготовленности слушателей, как хочется сразу же объяснить складывающуюся не стыковку. Слишком просто было бы удалить её, насытив людей необходимыми для этого знаниями. Проблема сложней и глубже. С ней-то мы и задались целью разобраться и дать вразумительное объяснение.
Человечеству давно известно, что от «понимания» и «непонимания» говорящего и слушающего берут начало все житейские и мировые драмы, которые наводят на мысль о несовершенстве людского рода.
Давайте поразмышляем… Жизнь и смерть, любовь и ненависть, горе и счастье, голод и сытость, боль и радость и т.д. и т.п. – понятия общечеловеческие. Во всяком случае, чтобы выразить их людям не обязательно говорить на одном языке и иметь определенный уровень духовного развития. И у белых, и у черных, и у желтых они имеют общепонятный язык выражения. Когда ликуют – смеются, хлопают в ладоши. Плачут – когда больно, когда беда. Тянутся к кобуре и кинжалу – если ненавидят и их охватывает ярость от несправедливости. Лицемерят – если слабы да корыстны. Топчут святая святых, чувствуя свою силу и безнаказанность…
В основе основ всего этого, и в первую голову людских отношений, согласитесь, лежит некая странность, вызывающая противоречивость и неприятие в общении у одних и совпадения взглядов и мнений у других.
Спрашивается: откуда она? Вопрос: «Откуда?» людей, как не странно, занимает меньше всего, поскольку, у них, видите ли, есть готовое, а главное универсальное объяснение из чего эта странность складывается. Особо не задумываясь, они скажут: широчайшим, кишащим нюансами спектром чувств, отношений, уровнем знаний, интеллекта, вкусов и т.д.
Но это совсем не так. Всё гораздо сложней и интересней. Чтобы окунуться в эту таинственную загадочность бытия человечества обратимся к работам родоначальника целого ряда направлений современной науки, академика В. И. Вернадского. Широта его научных поисков поражала современников. Поражает она и сегодня. С его именем связаны многие замечательные открытия в естествознании – минералогии, кристаллографии, геохимии, радиогеологии, биогеохимии, природы воды… И тут следует подчеркнуть, что все устремления учёного были направлены к единой цели – к выяснению роли живого вещества на Земле и в Космосе.
Живая и неживая природа, как ныне уже огульно не отрицается, при всём различии, неразрывно связаны между собой миграцией атомов. Эти три феномена реальности – молекулярно-атомическая сущность, космос и живое существо – образуют материальный мир, природу. Наша планета и вся звёздная система, которой она принадлежит, только малая песчинка в составе Галактики, а Галактика – песчинка в структуре Мироздания.
С именем В.И. Вернадского связано становление новой, второй по счёту, научной Картины Мира, противоположной прежней, ньютоновской. Молодая наука (наука ХVII века) открывала человеку мир, как мир физических, механических сил, как «пустое» Пространство и Время. Блез Паскаль назвал его «миром пустого безмолвия». И эта Картина Мира, принятая наукой ХVII века, перекочевала в широкие пласты культуры, в том числе и в философию. Именно она в какой-то мере послужила источником мирового пессимизма. На неё в ХIХ веке ссылались Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше. Так, Щопенгауэр, исходя из её посылов, назвал живое существо Земли «плесенью», случайно покрывшей нашу планету. К ней (плесени) философ отнёс и жизнь хомо-сапиенса, человека разумного – со всеми его жалкими радостями и горестями, надеждами и любовью…
Ещё дальше своего предшественника и учителя, пошёл Ницше, провозгласив тезис о том, что итоги мирового развития «равны нулю». Вместе с тем, Ницше, всё-таки, признавал жизнь, как высшую человеческую ценность. Правда, под жизнью, мыслитель имел в виду инстинкт и волю к власти, как господству над другими. Он настаивал на том, что мораль господ превосходит мораль рабов, идущих, по навязанным им, религиозным истинам (заповедям).
Главная идея философского творчества Ницше, восходящая к его пониманию ньютоновской Картины мира – это идея сверхчеловека. И тут само собой возникает вопрос: чем, жившие с ним в одно Время люди, не устраивали философа? И он на него нам отвечает устами Заратустры: «Всё измельчало»(6). Это по Заратустре означало, что цивилизация оказалась под господством людей, усиленно «проповедующих покорность, скромность, благоразумие, старание, осторожность и длинную вереницу остальных маленьких добродетелей».(7). В целом же, как заявляет Ницше, человек – «… Смешная порода. Какое-то стадное животное. Нечто добродушное, хилое и посредственное». (8) Это популяция страдающих существ, не способная к творчеству. А главным признаком творчества, философ считал волю к власти.
Не стремящийся к ней обычный человек, представляется им практически безжизненным и никчемным существом, лишённым самоценности. Её он начинает приобретать в случае, когда в нём пробуждается воля к власти и, следовательно, к трансценденции в сверхчеловека. Поэтому, по мнению Ницше, падающего, то есть слабого, лишённого всякой жизненности и ценности индивида, нужно обязательно подтолкнуть. Помочь его падению. Подобная помощь есть подлинная доблесть настоящего человека, очищающего дорогу для сверх людей.. Поэтому философ сравнивает человека, идущего над пропастью по канату, что натянут между животным и сверхчеловеком.
«В человеке,– заявлял он,– важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и уничтожение».(9)
Под переходом, который, как вы заметите по настоящему трактату, утверждается и нами в плоскости нашей Картины Миропонимания. Но, в отличие от нас, Ницше видел его в переходе от человека к сверхчеловеку, где напрямую признаётся неравенство людей и, где «мораль рабов», будет заменена «моралью господ».
Очевидно, такая категорическая позиция философа имеет явный признак Заземлённости. В ней, напрочь, отсутствует космическая составляющая бытия. То есть, диапазон его теории, мягко говоря, лишён необходимой широты, поскольку не рассматривает, влияющую на бытие, силу объективных процессов, происходящих в оси: Человек- Земля – Космос- Пространство-Времени.
Повёрнутая в сторону сверх людей, время которых ещё не пришло, но им принадлежит будущее, мыслитель выступает за радикальный пересмотр всех морально-нравственных ценностей и человека, ибо сверхчеловек никак не будет связан с обществом и людьми, никакими нравственными условностями. Для сверхчеловека «человеческое слишком человеческое» и он живёт, думает и действует «по ту сторону добра и зла». Поэтому сверхчеловек, как настаивает философ, вовсе не добрая особь, в набор которого входит всё слабое, больное, неудачное, страдающее и т. д. Это человек с узнаваемыми качествами «антихриста», олицетворяющего дионисийское начало (свободную игру жизненных сил, стихий и творчества). Сверхчеловек – это личность, поставившая себя на место Бога, ярко отличающаяся врождённой аристократичностью, благородством и доброжелательностью по отношению к равным себе и чётко выраженным превосходством и презрением к «серой массе». Той, чтодолжна безропотно повиноваться, превосходящему их ещё и биологически, сверхчеловеку.(7)
Такова вот по Ницше сущность сверх людей, будущих хозяев жизни.
Следует заметить его концепция, называемая ныне Ницшеанством, имела большое влияние на умы современников. Но как это и бывает, в понимании своём она имела разную интерпритацию. Одни обращали внимание на её анти демократичность, аморальность, анти гуманность. Другие видели в ней патологию. Авторское мизантропство. Третьи же считали, что философ своею работой выступает против «пресмыкающегося человека» и призывает к его возвышению до уровня аристократа и независимой личности.
Действительно, Ницше своей теорией ставил задачу разрушения и переоценки всех привычных для людей ценностей. Вместе с тем, она, несмотря на всю свою революционность, была чисто идеологической и не подкреплялась ни конкретной методикой, ни описанием пути, каким следовало идти. Одним из первых, кто попытался решить её и теоретически, и практически, был упомянутый нами выше Георгий Гурджиев.
По мнению Гурджиева, настоящий христианин тот, кто живёт в соответствии с заповедями Христа. Для философа это означает способность человека «делать» и «быть», иначе говоря, из состояния «машины» или «автомата» (в каком находится большинство людей) человек должен стать «господином самого себя» и быть осознанно ответственным за всё, что происходит с ним и в окружающем его мире. (10) Отстаивая эту мысль, Гурджиев истово доказывал, что эволюция человека необходимый фактор и он возможен только в определённых условиях, путём приложения сил со стороны самого человека и при достаточной помощи тех, кто, начав сходную работу, достиг какой-то степени развития и выработал свою методологию в достижении конкретных результатов. (5)